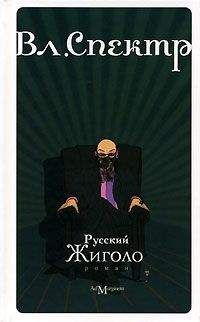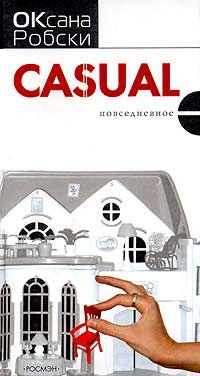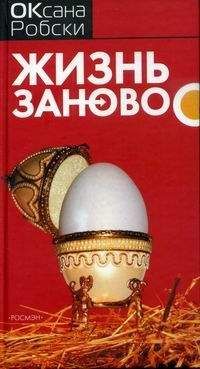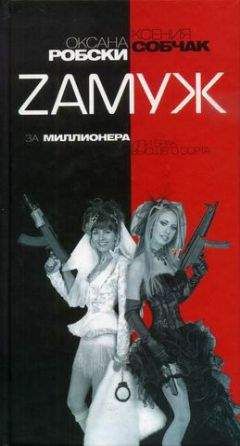– У меня нет тайн от вас, госпожа, я открыт вашему взору, вашим желаниям и прихотям.
– Так-так, – качает она утвердительно головой и подходит ко мне вплотную, – так-так.
– У меня нет ничего: мои вещи, мое тело, мои мысли и даже моя жизнь принадлежат вам.
Раскаленные капли жгут мою спину, воск скатывается по ней, постепенно охлаждаясь и застывая безобразными черными потеками.
– Ваше благо, госпожа, для меня всегда высшая цель. Я никогда не сделаю ничего, что может повредить вам. Если так будет нужно, то я пойду для вас, госпожа, на все: умру, солгу и унижусь.
Острое жжение на сосках.
– Вы вправе подарить меня на время любой другой женщине, и я буду служить временной госпоже так же, как постоянной.
– Это уж дудки, – шепчет Вероника и капает свечой на мой член. Резкая боль даже заставляет на время забыть о возбуждении. – Госпожа не несет за тебя никакой ответственности и не должна никак заботиться о тебе, – говорит Вероника. – А теперь расскажи мне, что ты обязан делать, – она задувает свечу и достает прищепки. Обычные тугие деревянные прищепки.
– Ох… – срывается с моих губ.
– Что-что?
– Я обязан исполнять любое ваше пожелание с покорностью. Фраза «сделай, если хочешь» равносильна для меня приказу. Для меня нет ничего такого, что было бы неприлично сделать в вашем присутствии или по вашему приказанию. Я должен просить прощения за совершенные ошибки. Прощение возможно только после наказания.
– Вот именно, – улыбается Вероника, и первая из прищепок тисками сжимает мой правый сосок.
Я слегка вскрикиваю от боли, но нахожу в себе силы продолжить:
– Я должен быть благодарен вам за все, что вы делаете.
– Точно, – вторая прищепка оказывается на левом соске.
Боль достигает той точки, когда следом за неприятностью ощущений вдруг приходит диссоциативное состояние, граничащее с экстазом.
– Наедине с вами я должен ходить в ошейнике и той минимальной одежде, которую вы разрешите мне надеть.
Еще две прищепки на грудь, еще одна на яйца, и сразу еще две туда же.
– Я обязан становиться на колени перед вами при малейшем внимании с вашей стороны. Это моя основная поза.
Я уже не в состоянии сосчитать, сколько прищепок у меня на сосках, а сколько на яйцах и в области лобка.
– Я должен при каждой встрече исповедоваться перед вами, госпожа, во всех своих делах, прегрешениях и провинностях. Ваши тайны для меня священны. Я не открою никому ваших тайн, и сам не буду любопытен. Мой рот всегда на замке для всего, что касается вас, госпожа, – говорю я хрипло.
– Да, – эхом отзывается Вероника.
«Это уж вряд ли», – думаю я вдруг сквозь экстаз и полуобморочную негу, смешанную с болью.
– Я хочу наказать тебя, – шепчет Вероника. Она танцует под медленную «Satyam Shivam Sundaram». – Придется тебя наказать.
Ее холодная ладонь трогает мою задницу, гладит ее, опускается ниже, прихватывает яйца и сжимает их так крепко, что я невольно вскрикиваю от боли.
– Вставай и идем, – шепчет она и поворачивается, не отпуская моих яиц.
Я следую за ней, словно собака на коротком поводке.
Она приводит меня в спальню.
– На колени, – приказывает она.
Я снова опускаюсь на колени прямо перед кроватью, застеленной багровым покрывалом, спиной к Веронике. Та резкими движениями срывает с меня прищепки. Боль накрывает меня волнами, словно наркотические приходы.
– Ложись, – говорит она.
Стоя на коленях на полу вплотную перед кроватью, я ложусь на нее и вытягиваю вперед руки, Вероника надевает на них наручи и скрепляет между собой.
– Удобная позиция, – шепчет она, – чтобы наказать такого негодника, как ты. Все открыто, беззащитная плоть как на ладони.
Она снова гладит мою задницу, потом чуть выше, поясницу, спину, склоняется к моей шее и слегка прикусывает ее зубами.
– Восхитительно, – шепчет прямо в ухо и резко выпрямляется, отходит на шаг, встает у меня за спиной.
– Ты готов?
Я не успеваю ответить. На мою беззащитную задницу обрушивается серия ударов тонким хлыстом. Они ощутимы, но пока не доставляют заметных страданий, Вероника знает свое дело и еще только готовит меня к мучениям. Она бьет меня по заднице и спине, некоторые удары захватывают даже шею, я лежу молча, пытаясь отрешиться от всего земного, расслабиться, впасть в нирвану. Ведь только так, полностью растворяясь в ощущениях, можно не только вытерпеть, снести боль, но даже получить не похожее ни на что экстатическое удовлетворение.
Хлыст бьет все сильнее, удары становятся все чаще.
Она меняет хлыст на толстый и длинный кнут с плетеной рукояткой в форме фаллоса.
Погружение в боль, самоотдача, ты закрываешь глаза и отдаешься орудию, терзающему твою плоть.
И если бы я при этом был хотя бы капельку, хоть самую малость мазохистом!
Все дело в женщинах, а вернее сказать, в моих женщинах. Всегда выбирая подруг старше меня и лучше устроившихся в жизни, не умея косить под мачо, молодого самца, уверенного в себе, я вынужден был избрать роль более слабого, ведомого, с готовностью исполняющего любые прихоти своей госпожи.
Всегда, сколько я помню, все начиналось с простых человеческих отношений, а заканчивалось сексуальным рабством. Да что говорить! Последнее время у меня просто нет достаточных сил, чтобы играть активную роль. Все, что возможно, выжато из моей эмоциональной сферы, я практически не чувствую возбуждения, я могу часами пялиться на порноканал и онанировать, да так и не кончить, и дело тут вовсе не в импотенции, совсем нет. Все дело в нравственном выхолащивании, в заторможенности, в бескрайней и бесчувственной пустоте, что с незапамятных времен поселилась у меня в душе и смотрит, смотрит оттуда на мир ничего не выражающим взглядом моих некогда голубых глаз. Да, да, у меня голубые глаза, а ты и правда не заметила, куколка?
Хлыст бьет все сильнее, оставляя пунцовые отметины на моей загорелой и гладкой коже. Удары становятся резче.
Боль это шквал. Она распространяется по всему моему телу, не концентрируясь в местах ударов, а расползаясь во все стороны и даже проникая вглубь.
Боль это тоже наркотик, как и многое в нашем мире, только надо уметь правильно употреблять его.
Меня никогда не наказывали родители. Либерально настроенные, они всегда предпочитали разъяснительную беседу физическим экзекуциям.
Теперь я сомневаюсь, правы ли они были.
Я старался не драться в детстве, всегда уступая более развитым сверстникам.
Теперь я не уверен в правильности своего выбора.
Я всегда предпочитал исподтишка отомстить, столкнуть лбами недавних обидчиков, втираясь в их круг, завоевывая доверие, прибегая ко лжи и предательству, изучая с самых ранних лет науку интриганства.
Теперь я искусно пользуюсь ею в своей взрослой жизни.
Хлыст в последний раз со свистом разрезает воздух и опускается на мою истерзанную плоть.
Я открываю рот, чтобы глотнуть воздуха, но мне он кажется пустынным зноем, палящим и обжигающим мою глотку. Я открываю глаза, перед ними яркие пятна и круги.
Вероника склоняется надо мной, целует меня в губы, проводит рукой по подбородку.
– Слезы, – говорит она.
А ведь я никогда не плакал в детстве. Я просто не умел это делать.
Теперь я научился плакать и не стесняюсь слез.
Снова настроение у меня скверное. Я чувствую себя раздраженно и подавленно. А все потому, что в этом гребаном посольстве желающих уехать в туманный Альбион целая толпа. И все по большей части какие-то бомжи, правда, несколько заграничного вида – уж больно чистенькие на них кроссовочки и нейлоновые куртяшки. Хорошо еще, что мои бумаги уже отправили в канцелярию и остается лишь сидеть на неудобном пластиковом стульчике и ждать, когда вызовут на собеседование.
От нечего делать я листаю припасенный на этот случай журнал. На последней странице, среди фотографий с показа Дениса Симачева в лофте Кати Гомиашвили, нахожу несколько моих. Нормально рассмотреть себя не удается, шум вокруг стоит несусветный, англичане постоянно что-то выкрикивают в микрофон, да и соотечественники галдят как подорванные.
Секретарша Вероники сказала, что будет ждать меня на улице, на всякий случай. Я не спорил, хотя смысла в этом ее ожидании не было никакого, если бы мне отказали в визе, она вряд ли смогла бы это исправить. Я немного размышляю о ней, решаю, что скорее всего она приезжая, у москвичей совсем не такое выражение лица, ну и улыбка, да, искренняя, немного смущенная улыбка.
«Симпатичная девочка, – думаю и откладываю в сторону глянец. – Интересно, сколько ей лет? Наверное, не больше двадцати четырех».
Тщетно пытаюсь вспомнить, когда в последний раз я общался с девушкой моложе меня.
Вдруг кто-то дотрагивается до моего плеча.