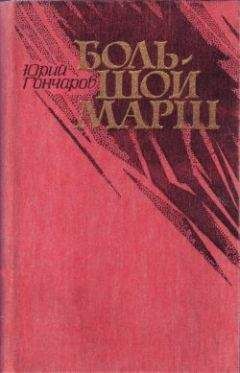Вереница людей и тележек потянулась назад, к Хохлу. Встретился обширный колхозный яблоневый сад с высокой травой между деревьями. Вожаки, несколько мужчин, огляделись, вокруг было пустынно, деревня далеко. Предложили располагаться всем в саду, прятаться в высокую траву. План был такой: переждать дотемна и снова пуститься по своему пути.
В густом разнотравье гудели пчелы и темно-коричневые мохнатые шмели. Деревья были усыпаны яблоками, почти закрывавшими собою листву. Они уже доспевали, сад буквально ломился от гигантского урожая, но я смотрела на яблоки с явственным чувством, что их нельзя рвать, потому что они немецкие. Были наши, советские, колхозные, а теперь, как все вокруг, и они принадлежат немцам, и, если сорвешь хотя бы яблочко, явятся те жандармы на мотоциклах, в пыльных плащах, с автоматами и накричат, ударят, может быть – даже убьют, как за кражу их собственности. Хлопотливо сновали пчелы, их возня на головках цветов была обычной, всегдашней, но мысль о немцах примешивалась и здесь, казалось – и у пчел теперь хозяева они, немцы, потому пчелы и летают так свободно, что работают на них, тот мед, что они собирают, хотя еще не собран, но уже тоже немецкий, весь, без остатка он принадлежит им, есть его будут они, и больше никто его даже не коснется…
Дождаться ночи не хватило терпения. Окружающие поля и видные из сада дороги на холмах были пусты, это соблазняло продолжить путь. Вожаки повели, выбирая совсем глухие тропы, хоронясь по глубоким балкам. Не знаю, сколько удалось так пройти, три километра, пять, – колонна наша снова наткнулась на немецкий патруль, который опять повернул нас к Хохлу.
Еще двое или трое суток продолжались наши блуждания в степи, наши упорные, но бесполезные попытки пройти к Острогожску. Немецкие разъезды, патрули, заставы преграждали нам путь и неизменно возвращали назад. Получалось, что мы не продвигаемся вперед, а кружим в недальнем от Хохла расстоянии.
А потом и вовсе мы оказались с ним рядом, даже крики хохольских петухов были слышны на заре.
Еще день мы провели в поле, в пустом щелявом сарае полевого колхозного стана. Еда почти у всех кончилась, воду делили по глоткам. Ничего не оставалось, как вернуться в Хохол. Там можно было поменять на продукты вещи, там была колодезная вода.
Но там по-прежнему было и то самое пугающее, что заставило из него бежать: регистрация.
Неизвестно, что стало бы с нами, если бы мама пошла на регистрацию. Может быть, нас увезли бы в Германию, может, пришлось бы жить где-нибудь в бараке, таскать щебенку для ремонта дороги или, самим умирая с голода, веять зерно в немецкой сельскохозяйственной «экономии», переделанной из совхоза или колхоза. Могло получиться и так, как больше всего боялись мы с мамой: ее, как медицинского специалиста, забрали бы на какую-нибудь службу при немецком госпитале или санатории для выздоравливающих солдат, а меня сунули бы в детскую колонию, где отняли бы имя и под новым немецким или даже под номером стали бы онемечивать, стараясь, чтобы я забыла себя и свое прошлое, своих родителей, свой родной язык и свою родину, стали бы обращать меня в безликое существо со знаком «ost» на груди, понимающее только немецкие команды, годное для одной лишь грубой физической работы, в рабыню для услужения какой-нибудь немецкой семье.
Но помог случай. Мама встретила местную женщину, которая до войны лечилась у нее в больнице. Простые люди умеют помнить добро. Женщина, ее звали Катя, Катерина Игнатьевна, увела нас в свой дом на далекую окраину Хохла, почти на хутор. Мы стали у нее жить, как родственники, как будто мама была ее сестрой из придонской деревни и у нас там все сгорело – и дом, и хозяйство. Маму она переодела во все деревенское, дала ей сапоги, длинную юбку, заштопанную кофту, ватник, платок на голову, научила его повязывать по-деревенски. Меня тоже переодели – в длинное, на деревенский манер, платьице; осенью я носила старенькое, латаное пальтецо, мальчуковые ботинки. Все наше городское хозяйка спрятала подальше. С нею мама ходила в поле на уборку колхозной картошки и свеклы. Немцы заставляли местное население собирать колхозные урожаи. Продукты они тут же увозили, но все-таки колхозникам кое-что перепадало. Перепадало и маме, иногда она приносила с собой немного картошки, иногда – кое-какие овощи. Колхозные женщины, конечно, все до одной понимали, что мама не колхозница, видели, что она неумела и непривычна в деревенском труде, что мы не из придонской деревни, а воронежцы. Но никто нас не выдал немецкому начальству. В колхозе был бригадир, из местных, поставленный немцами; он тоже, конечно, все видел и понимал, но Катерина Игнатьевна время от времени поила его самогоном, и он тоже делал вид, что ни о чем не догадывается; наряжая женщин на работы, называл маму «сеструхой»: «Ты, Катерина, с сеструхой вот что будешь делать…» Но слово «сеструха» он всегда произносил слегка подчеркнуто, чтобы Катерина Игнатьевна и мама не забывались, всегда помнили, что он отлично знает их секрет, – какая моя мама Катерине Игнатьевне сеструха. В колхозе, заодно сказать, было много подобных «сеструх», «племянниц» и просто «родни», деревенские люди почти все подряд старались помочь попавшим в беду горожанам. А у бригадира, видно, на уме были свои расчеты, ему были кстати эти «лишние» рабочие руки, без них при полном отсутствии мужчин было бы не осилить полевые работы, выполнять немецкие приказы.
Я не была для мамы обузой, только «ртом». С деревенской ребятней я пасла чужих коров и телят, помогала крутить мельнички, на которых местные жители мололи зерно, выбирать на огородах картошку. За это хозяйки вознаграждали молоком, отсыпали горсть-другую муки, наделяли кочанчиком капусты, котелком картошки.
Поздней осенью в центре Хохла в небольшом доме открылась «гимназия», и я пошла туда со своими деревенскими подружками в четвертый класс. Учительница была русская, но проинструктированная немцами и обучавшая по их программе. Первый урок был по географии. На доску учительница повесила обычную школьную карту, изображавшую нашу страну, и, показывая на нее, сказала, что это территория «бывшего Советского Союза». Я едва досидела до конца урока и ушла домой, – я не могла оставаться в классе и слушать учительницу, ее географию, переделанную на немецкий лад. Дома я долго и горько рыдала от этих ее слов – о «бывшем Советском Союзе». Они утверждали то, что стало, и отнимали все, что было у меня прежде, там, в Воронеже, – сам Воронеж, мое детство в нем, мою улицу, мой дом, книги, школу, моих друзей и товарищей по дому и классу, моего папу, бабушку, всю нашу жизнь, все, что в ней было и должно было еще быть, – все, все, все… Я рыдала до прихода мамы с «бывшего» колхозного поля, а потом и у нее на руках, а мама не находила слов, как меня успокоить, и, прижимая к себе, гладя мою голову, только повторяла: «Все будет опять, вот увидишь… Все вернется…»
Глубокой зимой, в конце января, в лютую морозную ночь в Хохле запылали десятки пожаров: немцы зажгли пекарню, которая делала для них хлеб, все свои склады, большую конюшню со своими лошадьми, двор с санями и повозками, и по этим пожарам, по панике немцев и их стремительному бегству среди ночи село узнало, что подходят наши войска.
С грохотом распахнулась в нашей избе дверь и, в клубах морозного пара, с пистолетом в одной руке, электрическим фонарем в другой, в наш дом вскочил молодой, розоволицый от мороза и бега лейтенант в ушанке, белом полушубке и валенках. Ему и бойцам показалось, что в нашем доме укрылись немцы.
Лейтенант был воронежец, а мы были первые воронежские жители, которые ему встретились. Фамилия его была Песков.
– Надо же! – воскликнул он, узнав от мамы, что мы с Халютинской. – А я с Малой Чернавской, это же совсем рядом!
Тут же он обрадовался еще больше, когда мама сказала, что работала в госпитале, а госпиталь находился в Четвертой школе.
– А я в этой школе учился! Это же моя школа!
Его бойцы побежали дальше, где-то вдали хлопали их выстрелы, а Песков еще с минуту оставался в избе и поспешно расспрашивал маму про Воронеж: что в нем разрушили немцы своими бомбежками, стоит ли бронзовый Петр и как это происходило – изгнание жителей. В городе оставались его родители, и он не знал, что с ними, где они. Мама рассказывала, а у него все мрачнело лицо, даже сбежал румянец, все круче обозначались скулы. Он сказал:
– Ну – ладно! Мы с них за все это спросим. Они нам за все ответят! Через шесть месяцев мы будем в Берлине!
Он глубже насунул на голову шапку, кивнул нам прощально и ободряюще и шагнул за порог – таким твердым и решительным шагом, с таким лицом, как будто намеревался прямо от нас идти и нигде не останавливаться и дойти до самого Берлина.
Песков ошибся на два года и три месяца, но всегда, когда говорят о войне и нашей победе, я вспоминаю этого Пескова. Да, наша армия победила потому, что у нее стало больше самолетов, танков и пушек, но, главное, потому, что был этот Песков, были миллионы таких Песковых, которые еще тогда, когда даже Курск не был взят и до Германии было еще две тысячи километров напряженных тяжелых боев, всей душой верили в наш флаг над Берлином и были готовы сделать и отдать ради этого всё…