— Расскажи мне сказку, — отчаянно пробормотала Эллен, потому что бабушка добралась до подушки и потянула ее на себя. Эллен поджала ноги и всем телом легла на подушку, но у нее кружилась голова от страха и силы ее оставили. Она сжала кулаки, чтобы отбиться от бабушки, но ей это уже не удалось. Подушка сдвинулась. Эллен очутилась в изножии кровати, и с края постели упал маленький стеклянный пузырек, покатился по полу, зазвенел, открылся и покатился дальше. Ночь осталась недвижна, по ее черному шлейфу рассыпалось несколько белых таблеток. Эллен соскочила с кровати. Она оттолкнула бабушку в сторону, голыми ногами наступила на стекло пузырька, раскровенила ноги и попыталась негнущимися пальцами собрать рассыпанные таблетки. Бабушка снова на нее набросилась, но Эллен с силой ее оттолкнула. Ее длинная синяя ночная рубашка собралась складками, как одеяние деревянного ангела на старинном мрачном алтаре. Бабушка с девочкой столкнулись головами, но борьба продолжалась недолго. Эллен исхитрилась опять собрать часть ядовитых таблеток, но бабушка уже держала остальные в зажатом кулаке. Однако лишь содержимого обоих кулаков было довольно, чтобы привести к смерти, к этой высокомерной спекулянтке, которая поначалу, пока ее проклинают, предлагает товар задешево, а когда ее начинают страстно призывать, вздувает цену.
— Ты еще не доросла мне мешать! — сказала бабушка.
— А вот и нет, — возразила Эллен, — доросла, — но в тот же миг усомнилась и отпрянула назад. Потянувшись за ней, бабушка потеряла равновесие и во весь рост растянулась в потемках.
Эллен застыла, сбитая с толку, но уверенная в своей правоте, возбужденная победой, как тяжелым старым вином; она обдернула рукава и наугад шагнула вперед. Она дрожала от ликования, и ей смертельно хотелось спать — опасное следствие любой победы. С какой-то чужой планеты долетел стон, и она его еле услышала. Она беспомощно уронила руки и только потом опустилась на колени рядом с бабушкой, без большого труда разжала влажную чужую руку и отняла яд. Она подсунула руки под костлявое тело и попыталась его поднять. Но тело было тяжело от усталости и отвращения.
— Бабушка, вставай! Слышишь, бабушка? — Эллен вцепилась ей в плечи и поволокла в сторону кровати, то опуская, то опять подхватывая и продолжая тащить. Стоны были невыносимы.
— Тише, бабушка! — И Эллен бросилась рядом с ней на твердый пол. Бабушка молчала. — Скажи что-нибудь, — вымаливала Эллен, — ну скажи мне что-нибудь! — Она попыталась взять бабушку на руки. — Ты жива, бабушка, я точно знаю, что ты жива, ты только притворяешься мертвой, как божья коровка! Мне тебя больше не удержать, вставай!
— Не встану, пока ты мне не отдашь мое, — спокойно ответила бабушка и посмотрела прямо на Эллен. — Ты меня обокрала. Я заложила шубу, и рецепт обошелся мне недешево. — Внезапно ее слова преобразились, оправленные в последние горькие остатки утраченного авторитета.
— Я тебе этого не дам, — возразила Эллен.
— Может, тебе это самой нужно?
Эллен не шелохнулась. Потом она отпустила бабушку, встала и медленно положила таблетки на стол.
— Я тебе отдам, бабушка. Но прежде ты мне расскажешь историю.
— Обещаешь, что потом все мне отдашь?
— Обещаю, — сказала Эллен.
Старая кровать раздраженно заскрипела. Эллен взбила подушку, накрыла бабушку, как ребенка, потом сама завернулась в одеяло и присела на край кровати. Ликование улеглось, и она мерзла. По всем щелочкам комнаты расползлось молчание, напряженное и задумчивое молчание, ожидание правды, заложенной в самой последней сказке, ожидание шепота суфлера. Серо-зеленая печка, старинный корабельный сундук и белая пустая кровать — все они сморщились в этой сосущей тишине, словно из них выпустили воздух, обвисли складками и замерли в ожидании, когда их снова надуют. Безнадежно поблескивал крестик над юго-западной Африкой и до последнего оборонялся против иссушенного жаждой дыхания отчаявшихся людей.
Бабушка отвернула лицо от Эллен и задумалась. История, что-нибудь новое — придумать это было труднее всего на свете. Эллен ждала, завернувшись в одеяло и привалившись к спинке кровати. Она ждала молча и неумолимо, как любое молчание всегда ждет слова, которое бы его наполнило, — ждала, когда у нее снова забьется сердце. Как неприкаянная душа, скорчилась она на краешке кровати.
— Рассказывай, бабушка, рассказывай! Ты же сама говорила, что все истории носятся в воздухе, стоит только руку протянуть!
— Мне ничего не приходит в голову, давай в другой раз! — Бабушка испуганно оглянулась по сторонам.
— Прямо сейчас, — прошептала Эллен.
— У тебя еще будет много сказок, ты еще молодая!
— Ну и что? — сказала Эллен.
— Сейчас-то уволь меня!
— Не могу.
— Ты молодая, — сказала бабушка, — и жестокая.
Эллен наклонилась и прижалась лбом к бабушкиному лбу. Она не знала, как ответить. Старая женщина беспокойно заметалась. Куда они подевались, все эти истории, которые она сотнями вытаскивала из карманов, из шляпки, а на худой случай и из-под разорванной шелковой подкладки, из бесчисленных тайничков, как хомяк — свои припасы? На них обрушилась всесильная полиция. Все поглотила тьма. Та самая тьма, что всегда зевает, не удосуживаясь прикрыть зияющую пасть рукой.
Бабушка застонала. Она листала от конца к началу распадающийся альбом воспоминаний. В альбоме она нашла трехлетнюю Эллен на белой блестящей табуретке, с открытым в беззвучном вопросе ртом.
— Бабушка, что такое воробей?
— Шустрое маленькое чудо.
— А голубь?
— Упитанное чудо.
— А продавец каштанов?
— Продавец каштанов — это человек.
Тут Эллен замолкала на несколько секунд, не больше, а затем снова бралась за свое.
Белую табуретку давно сожгли, и фото пожелтело. Но вопросы не умолкали.
— Историю, бабушка!
Но разве бывают вообще новые истории? Все истории старые, древние, и только ликование человека, раскрывающего объятия, сотворяет их заново, — ликование человека и дыхание мира. Пока Эллен требовала рассказать историю, она посреди черной, опасной ночи требовала, чтобы бабушка жила.
Итак: или бабушка придумает историю, и тогда после этого она уже не захочет умирать. Или она ничего не придумает, тогда она проиграет пари и яд останется у меня. Но что я с ним буду делать? Выброшу его в темноту. Темнота от этого не умрет.
— Бабушка!
Но бабушка все еще не знала, с чего начать. Она все так же понапрасну боролась со словами, и мятая географическая карта висела под крестиком — кусок бумаги, и больше ничего. Огня ждала печь, тепла ждала постель, а ночь ждала указаний. Ночь охватило нетерпение, потому что уже угрожающе надвинулось утро, наполненных осчастливило надеждой, а не наполненных прогнало прочь. И ничего не произошло, опять ничего. Все вызревало в тишине, а кто не мог ждать, оставался незрелым. Так ждала ночь, и Эллен ждала, пока бабушка не задремала. Удар, успела она подумать, легкий апоплексический удар, пока они не пришли! Но Бог не наносит ударов по нашему хотению. Эллен с усилием кусала ломоть хлеба и не оставляла надежды. «Жили-были… — запинаясь, пробормотала бабушка, — жили-были…»
— Правильно! — возбужденно крикнула Эллен, отбросила хлеб и нагнулась ниже, чтобы расслышать доносившиеся издали слова. — Дальше, бабушка, дальше! — Но бормотание снова перетекло в ничто. Рассказывать истории оказалось не так просто. Они требовали разжатых рук и маленьких щелочек между пальцами, сквозь которые они могли бы просочиться. И они требовали открытых глаз.
Старая женщина все твердила эти два слова, но историй не было. Истории в самом деле носились в воздухе, но они спали, а когда просыпались, начинали насмешничать, подлетали к самым губам и снова уносились прочь. «Таблетки», — раздельно произнесла она через некоторое время. Эллен покачала головой. Бабушка умоляюще протянула руки, в последний раз шепнула «Жили-были…», потом все силы, которые и были источником мучений, ее покинули, и она впала в сон.
— Ну нет, — беспомощно сказала Эллен. Она зажгла ночник и вздрогнула. То, что здесь лежало, было такое чужое, так далеко и так поглощено собой, словно оно никогда не было бабушкой. То, что здесь лежало, дышало так тяжело и так задыхалось, словно никогда не знало радостей мирной жизни. «Эй!» — неуверенно сказала Эллен и прижалась теплым лицом к холодному на подушке. Приступы удушья постепенно затихли, дыхание стало легче. Но все остальное было по-прежнему далеко.
— Раз так, — решительно сказала Эллен, — раз такое дело, я сама расскажу историю! — Она не знала, почему начала с Красной Шапочки, не знала и того, кому предназначалась эта сказка, ночи, марту или сырой стуже, сочившейся сквозь щели в окне. Ведь бабушка спала, и только время от времени вздрагивала в сиянии черного света.

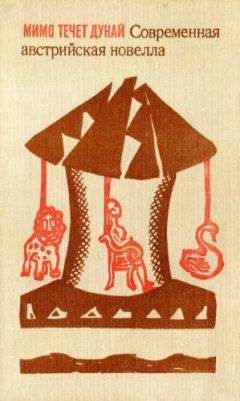


![Джордж Ланжелан - Муха [= Муха с белой головой / The Fly (La Mouche)]](https://cdn.my-library.info/books/61807/61807.jpg)
