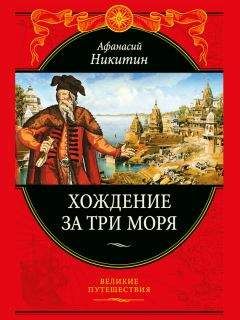В машине было уютно, можно было даже что-то записать, несколько слов на память, но я не стал. Хотя можно было, например: ночной ресторан, критик, море, гном, театр марионеток, но эта запись могла всплыть и потревожить к другие, ранешние, ладно уж, думал я, что запомнится, то В и ладно.
* * *
В гостинице в номере никого не было, лишь записка, что Толя выписался. Собрался и я. И совсем было направился к выходу, как что-то чуть ли не насильно заставило подойти к окну. И не зря. Внутри окна, меж двойными рамами, за тяжелой, янтарного цвета портьерой ждала спасения ласточка. И, видимо, давно» так как измучилась совершенно. Я кинулся раскрутить винты, соединявшие рамы, но чем? Схватился сдуру за жестяную пробку, валявшуюся с ночи, да разве кого спасешь таким инструментом? Тут же я вспомнил, что в сумке есть охотничий нож, подаренный мне на Байкале, да еще такой ли нож, что боялся им пользоваться, чтобы не потерять, и — смешно признаться — возил его привязанным за ножны внутри сумки. Потеряться нож не мог, но зато и и деле не бывал. Оглядываясь на окно, я выкидал все из сумки, вырвал вначале ножны, потом нож из них и открутил винты. Развел взвизгнувшие рамы. Ласточка встрепенулась и, не давшись в руки, вырвалась наружу. Там стала падать, но хорошо, что было высоко, — она выровнялась и встала на крыло. Я свинтил рамы обратно, в конце, затягивая, не рассчитал, и на ноже, на лезвии, осталась зазубрина.
Присел вдруг к подоконнику и записал: «Больше всего на Байкале меня поразило то, что на нем, на любом месте его берега, можно встать на колени и пить воду: она чистая». Еще тут же, не утерпев, стал писать на будущее: «Печаль о невозможном продлении счастья, мальчишник на Байкале, Ярославский вокзал, тоска по родному говору». Вот где вспомнились выученные давно слова Пушкина и ждавшие своего места: «Или воспоминание самая сильная способность души нашей, и мы очарованы всем, что подвластно ему?»
Очарованы всем, что подвластно ему…
Она жила так давно, что не помнила, когда родилась. Она была всегда. Она меняла кожу, грелась летом на солнце, иногда оцепеневала на зиму, но не этим измерялось ее время. Ее годовая стрелка вздрагивала и оживала во время рождения змеиных выводков. Давно лишенная радости и горя, влившая все свои чувства в одну злобу, Змея жила энергичнее, когда из змеиных яиц выползали змееныши. Это не были беспомощные птенцы, которым надо было опушиться, опериться, научиться летать и добывать пищу, это не были слабосильные детеныши всех млекопитающих, — нет, это были вполне самостоятельные змеи, только маленькие ростом. Когда Змее рассказали, что люди, натуралисты, делали опыт: подгладывали змеиные яйца певчим птицам, и молодые змейки в первые секунды своей жизни кусали всех, кто был в гнезде, — то Змея восприняла это как должное.
Умудренная тысячелетиями настолько, что ей не нужны были доносчики, чтобы сообщать ей, кто и что о ней говорит и думает, она сама обо всем и обо всех знала. И она знала в последнее время, что молодые змеи смеются над ней. И знала за что. Она несколько раз в последние годы уклонилась от встречи с людьми — их врагами. Она, помнившая времена, когда вся жаркая середина Земли трепетала от засилия змей, когда к гробницам и пирамидам фараонов, считавших себя равными богам, их трусливые рабы боялись подойти, ибо все сокровища гробниц принадлежали змеям. Она, помнившая времена Великого рассеяния змей по лицу необъятной Земли, она, ставшая символом исцеления от всех болезней, опоясавшая чашу с живительным ядом, обкрутившая державные скипетры всех царей, она, изображенная художниками в такую длину, что ее хватило стиснуть весь земной шар и головой достигнуть своего хвоста: она, вошедшая не только в пословицы, но и в сознание своими качествами — змеиной мудростью, змеиной хитростью, змеиной выносливостью, змеиной изворотливостью, змеиным терпением… чего ей было бояться? Ей, родной сестре той змейки, что грелась на груди Клеопатры, родной сестре всех змей, отдававших свой яд в десятки тысяч кубков, бокалов, стаканов, незаметно растворявшийся в цвете и вкусе хмельного или прохладительного напитка или просто воды и делавший необратимым переход от земной жизни в неведомую ни людям, ни змеям другую жизнь.
Чего было ей бояться? Всегда боялись ее.
Молодые издевательски шипели меж собой, что она жалеет свой яд. Что возражать! Не она ли за тысячелетия добилась того, что яд тем более прибывает в змее, чем более расходуется. Она, умеющая расходовать свой яд экономно, на размер и силу жертвы, а убивавшая иногда и без него, только взглядом. Но эти штучки с гипнотизированием кроликов она давно оставила, ее не насыщала кровь, да и не нужна уже была ей, она могла брать силы своей жизни прямо из атмосферы — воздуха и света. И особенно солнечного тепла. Змея всегда знала, какое будет лето, сколько в нем солнечных дней, и могла за неделю солнца столько энергии саккумулировать в клетках кожи, что потом этой энергии хватало до следующего лета.
Ей, бессмертной, кого бояться?
Ей, выступившей во времена рассеяния за Великое единение змей, а за это провозглашенной бессмертной самим Змием, тем, который был на древе познания, когда свершался первый грех, сделавший на все времена людей виновными уже за одно зачатие, а не только за появление на свет, ей чего-то бояться?
Вот прошел сезон змеиных выводков, прошел настолько успешно, что будь Змея помоложе, она бы возгордилась результатами своего многовекового труда: все прежние территории были полны подкреплений, были захвачены новые пространства, но Змея считала, что иначе быть не может.
Смеялись змеи над ней по очень простой причине — она вновь уклонилась от нападения на человека. Это был прекрасный юноша, он поспорил, что проведет ночь в Змеином ущелье и вернется живым. Если бы не Змея, он бы проиграл. Она долго смотрела на спящего. Как мало им надо, думала она. Он бы даже не проснулся, но пусть! Пусть не она, а этот юноша возгордится, вернее, почувствует себя сильным, и они сами убьют его. Смерть от Змеи была бы для юноши слишком почетной.
Весь секрет Змеи был в том, что она хотела умереть. Она не умела радоваться, торжествовать, она умела терпеть и бороться, умела веками работать над улучшением и сплочением змеиной породы, она была всюду карающей десницей великого Змия, его инспектором, его селекционером. Ом всегда поражалась его расчетливой, насмешливой прозорливости. Только Змий, в отличие от нее, умел насладиться результатами труда.
— Что сейчас не жить! — восклицал он. — Сейчас все змеи знают о конечной нашей цели — власти над всеми пространствами и племенами! А помнишь тяжелые времена? — спрашивал он Змею. — С нами боролись так сильно, что мы были символом греха, нас попирали, карали, изгоняли как заразу, о, сколько клятв о мщении вознеслось тогда к моему престолу! Нет худа без добра: считая, что с нами покончено, они стали убивать друг друга, и мы успели собрать гаснущие силы, собрать их на развалинах городов. Помнишь, как славно было греться на камнях, бывших когда-то стенами храмов и жилищ, как славно оплетали развалины хмель и дурман, как славно пахли повилика и полынь? О, дурманящий запах запустения, о, этот запах, в котором нет запаха человека!
Да, Змея помнила эти времена. Помнила их клятвы превратить все города планеты в развалины. Вот тогда и был создан тайный из тайных жертвенный тайник змеиного яда. Огромная подземная чаша, освещенная отблесками золотоносной жилы, приняла тогда первые капли ритуального яда. Теперь все змеи перед уходом в свои регионы, а также при возвращении из них перед смертью отдавали часть своего яда в огромную чашу. Яд кристаллизировался, превращался в твердые янтарные россыпи, они ослепляли.
Чаша наполнялась.
Змея хотела умереть не так просто, она хотела изрыгнуть весь свой накопленный яд, а его скопилось очень много, в чашу, а сама, обвернувшись вокруг нее, замереть навсегда. Она думала, что заслужила этой великой чести. Но умереть без позволения Змия она не могла. И вот она в бессчетный — раз появилась у его престола.
Она никогда никого не осуждала, тем более Змия, хотя всегда думала, что он мог бы обставить себя скромнее. В глазах рябило от бесчисленных узоров на спинах и головах самых разных рептилий, но сейчас она поняла, что это не было роскошью, нет, здесь было единение, демонстрация змеиной силы, и где, как не здесь, над тайником их всесветного сокровища, собрать всех представителей грядущего властительства земли!
Пола не было видно — сплошное шевеление скользкого узорного ковра: протягивались длиннейшие анаконды, удавы гирляндами лисели на потолке и стенах, серые и черные гадюки простирались у подножия престола, по краям его, как маятники времени, качались кобры, гюрза крутилась волчком, бронзовые медянки искорками порхали всюду, асе шевелилось, и все расступилось перед ней, выстелилось перед ней, замерев, только кобры продолжали отталкивать время вправо и влево, в прошлое.