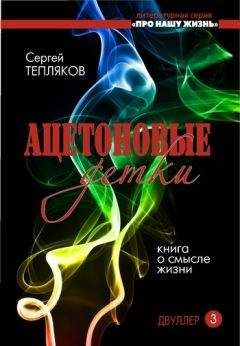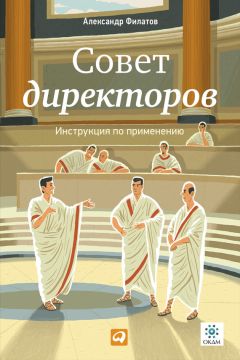– Чем же тебе Грядкин советский человек? – спросил удивленный Коржавин. – Что-то я тебя тут не пойму…
– Да тем, что привык жить в стаде. Куда отара, туда и он… – грустно ответил Бесчетнов. – Да и не о нем ведь одном речь. Все – стадо. Всем – по фиг. Тот же Бушуев: подумал бы – ведь по человеку на танке катается. Но нет, он знает, что за нераскрытое преступление с него премию снимут. И вот, чтобы он получил рублей сто, Радостеву посадили на девять лет. Он бы подумал – стоит жизнь человеческая этих ста рублей?
– И что делать? – грустно спросил Коржавин.
– Что делать, что делать… – пробормотал Бесчетнов. – Надо поставить наконец все на свои места. Судить и сажать надо за честность!
Коржавин только крякнул. Татьяна у прилавка засмеялась.
– А что? – спросил их Бесчетнов, будто даже и удивленный их реакцией. – Это ведь логично: преступление – это нарушение общественных норм, а про наши нормы уже как-то неудобно говорить. Сказки, где добро побеждает зло, сжечь. Разговоры о морали, совести, нравственности запретить как вредные, разлагающие молодое поколение. А то вот услышит пацан в промежутке между радио «Шансон» и сериалом «Зона» слова «душа обязана трудиться» да и вдруг задумается – кака така душа? А если задумается не он один? И главное, понимают ведь и начальники наши, что совесть нужна.
– Думаешь, понимают? – спросил Коржавин.
– Понимают… – покачал желтым от табака пальцем Бесчетнов. – Если все на деньгах, так всегда найдется тот, кто предложит больше. Человека должно держать еще что-то, кроме денег. Вот сейчас говорят – патриотизм. Надо, мол, родину любить.
– А ты думаешь – не надо? – с любопытством спросил Коржавин.
– А пусть она меня сначала полюбит! – ответил Бесчетнов, слегка даже стукнув по столику ладонью. – И вон того Грядкина. И тебя. И Татьяну. Ты, Татьяна, сколько уже гражданство оформить не можешь?
– Да уж пять лет… – со вздохом ответила Татьяна, несколько лет назад переехавшая в Россию из Казахстана и с тех пор кое-как мыкавшаяся по разным углам. – Ни статуса переселенца не дают, ни гражданства.
– Вооот! – протянул Бесчетнов, снова подняв над головой палец. – Любовь-то должна быть взаимной. Помнят те, кто наверху, про совесть, знают, что она нужна человеку, да одновременно страшно ее боятся. А ну как проснется завтра совесть у всех россиян – как же они будут терпеть то, что сейчас в стране творится?
– Сложно с тобой пить… – грустно сказал Коржавин. – А если я сейчас над своей жизнью задумаюсь? Пиво-то поперек горла и встанет…
– Брось, все нормально у тебя в жизни…
– сказал Бесчетнов, знавший историю Коржавина и даже помогавший ему устроиться в городе.
– Вот почему такие вопросы решают в пивнушках, а не на телевидении, например? – спросил Коржавин.
– Да потому, что когда человек выпьет, его отпускает, и маска с него слезает… – ответил Бесчетнов. – Вот выпьет человек, и понимает: так жить нельзя. А протрезвеет, и сразу думает: да нет, можно. Опять же, кредиты, ипотеки – столько всего, разогнуться некогда. Чтобы о смысле жизни задумываться, время нужно. А у кого оно сейчас есть? Потому и книжки сейчас тонкие – что книжку читать, что в носу ковыряться, по времени одинаково. А вот «Война и мир» у Толстого – четыре тома. Представь, сколько у людей было времени на разные мысли ….
– Ну и не больно-то им это помогло – заметил Коржавин. – Вон ведь чем кончилось в 17-м году.
– Тогда – не кончилось… – сказал Бесчетнов. – Это сейчас кончается. Можно было после 91-го года повернуть вспять, а не повернули. Как писал Довлатов: «Рожденный ползать летать не хочет!». Оскотинился человек, а признавать этого не желает. Не охота нынче человеку быть человеком.
– Эк ты загнул! – сказал Коржавин.
– А что – нет? – спросил Бесчетнов. – Сам говоришь – влетело тебе за то, что мне и телевизионщикам встречу с Радостевой организовал. Вроде и малость требовалась от твоих генералов – закрой глаза, сделай вид, что не заметил, а даже на это духу не хватило.
– Это да… – поцокал языком Коржавин, снова переживая нагоняй от генерала. – Это да… Как он на меня кричал…
– Забей! – сказал ему Бесчетнов. – Ты сделал доброе дело, и тебе это зачтется!
– Ну ладно, коли так… – со вздохом сказал Коржавин.
Грядкин остановившимися глазами смотрел в окно. За окном шел весенний дождь, но Грядкин не видел его. За его спиной была комната, которую он снял еще на те деньги, что заплатили ему при освобождении. Комната была в поделенной на коммуналку квартире. Когда Грядкин зашел сюда в первый раз, его поразили вылезавшие из разных закутков старушки.
Они были иссохшиеся, как тараканьи трупы. Грядкина первое время передергивало от них, от их запаха, от их шарканья. Потом стало все равно.
Он пытался найти в городе работу. Ходил по автомастерским, но машин, с которыми он был знаком – советских «Жигулей» и «Москвичей» – оставалось все меньше, и те, кто на них еще ездил, были уже отборный народ, и в деле ремонта зачастую дали бы фору любой мастерской. Иномарки же Грядкин не знал, а учить его никто не собирался.
Кое-как он зарабатывал какие-то гроши на перепродаже запчастей. Жил впроголодь – едва ли не с одним куском хлеба в день. Каждый свой грош он откладывал на передачу для Ирины. Сегодня с утра, собрав то, на что хватило денег, он поехал к ней в колонию. Надеялся, что им дадут свидание. Свидание не дали – инспектор сказал, что Ирина в штрафном изоляторе.
Грядкин, который за все эти месяцы не получил от закона ни одного ответа на свое заявление, понял, что вот это и есть ответ. «С нее начали, а мной закончат… – думал Грядкин, глядя в окно невидящими глазами. – Ей еще семь лет сидеть, что же с ней будет, если они ее теперь будут по ШИЗО таскать?!».. Ему стало страшно и больно. Грядкин заплакал и не почувствовал это. Он видел свое отражение в стекле, но ему казалось, что это не слезы текут по щекам – это капли дождя стекают по его отражению.
«Ничего не вышло… Ничего…» – подумал он. Он вдруг осмелился и начал мечтать – о том, как все могло бы быть хорошо: Ирина, их дом, их дети. «Еще собаку завели бы… – подумал он, улыбаясь незаметно для себя. – Да дети еще и кошек попросили бы, дети всегда котят таскают… Я бы с пацанами в машине копался, а Ирина учила бы девчонок шить». В мечтах у Грядкина была большая семья – он и сам не мог сосчитать, сколько детей с криками и смехом бегают по воображаемой им лужайке перед воображаемым им домом. Но вдруг картинка пропала и осталась только смертная тоска.
«Одно горе ей от меня… – подумал Грядкин. – „Было ли у нас хоть пятнадцать минут счастья на круг?!“ – вспомнил он ее слова. – Было, любимая, было, было и больше. Не зарываться бы мне, не торопиться. Жил бы спокойно. Куда я торопился? Зачем за деньгами бегал? Вот башку и расшиб. И хорошо бы только себе. Но еще и ей».
Он вдруг подумал – сколько же он всего натворил? Он, ни разу в жизни никому не хотевший зла, ни разу никому не сделал добра… От этой мысли ему стало физически больно. «Отец умер, мать на таблетках, Радостев убит, Ирина в тюрьме, Мишке жизнь сломал, сам как бомж… – с ужасом думал он. – Как так вышло? Если бы я по городу бегал с топором, и то не успел бы столько натворить».
Он медленно оделся, взял большую клетчатую сумку с неотданной ирининой передачей, и вышел из дома. Он пошел на вокзал – благо до него было рукой подать. На вокзале он отыскал каких-то бомжей и отдал им сумку. Потом вошел в здание вокзала, купил в ларьке ручку, тетрадку и конверт и долго писал письмо. Потом он сбросил его в почтовый ящик, а затем вышел на тянувшийся над путями пешеходный мост и еще долго стоял на нем, глядя на поезда, слушая скрежет вагонов. Когда начало темнеть, он приметил не спеша двигавшийся по путям поезд, быстро спустился вниз и лег головой на рельсу.
В кармане у Бесчетнова зазвонил телефон.
– Серега, я тут через вокзал домой иду, на путях человек без головы лежит! – весело кричал в трубку Петрушкин.
– Афигеть! – сказал Бесчетнов. – Так ты спустись, посмотри, что там.
– Да мне некогда… – ответил Петрушкин. – Дома ждут. Но ты успеешь – здесь еще даже ментов нет.
Бесчетнов вскочил и начал одевать куртку.
– Ты куда? – спросила его Наташа.
– Да на вокзале кого-то зарезало на путях… – ответил Бесчетнов, проверяя по карманам, при нем ли блокнот и ручка.
– А можно с тобой? – спросила Наташа.
– Что за странная любовь к покойникам? – поддразнил ее Бесчетнов. – Ну поехали.
Втроем с фотографом Трофимовым они быстро доехали до вокзала на редакционной машине, прошли через вокзал и вышли на перрон. В начинавшихся уже сумерках Бесчетнов увидел возле будки людей в оранжевых жилетах и пошел к ним. Инстинкт не обманул его – путейские рабочие как раз курили, глядя на покойника и поджидая ментов.
Тело в черной куртке лежало вплотную к рельсам. Вся кровь ушла под грудь. Между рельсами на щебенке стояла на шее отрезанная голова. Наташа, как увидела голову, ахнула и зажала ладонью рот.