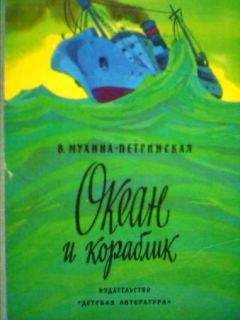Работы, как я уже сказала, хватает и сейчас. Каждые четыре часа записываешь температуру, облачность, силу и направление ветра, показания доброго десятка самописцев. Еще обработка наблюдений. Я не запускаю, обрабатываю тут же следом.
Затем бежишь сломя голову в радиорубку, где уже целый холм приготовленных для передачи радиограмм.
А на палубе часами возятся со своими приборами «научники», как зовут научных работников матросы. Делают по пять станций[1] в сутки. В семь утра подъем. Половина восьмого — завтрак, крепкий чай или кофе. И уже грохочут лебедки гидрологов — Яша и Барабаш начали наблюдения. На корме спускают сетки для планктона и рыбы Иннокентий и Сережа. Затем они переходят на правый борт и спускают дночерпатель для изучения бентоса. Я записываю погоду, а Миша Нестеров с помощью кого-либо из матросов выпускает радиозонд — огромный шар, несущий блоки крохотных приборов. Они автоматически сообщают по радио все данные атмосферы над «Ассоль». После чего Миша по моим данным (и как метеоролога, и как радиста) составляет синоптические прогнозы, которые каждый день самолично вывешивает на доске объявлений (матросы заключают пари: ошибется он или попадет в точку). Он же изучает лучистую энергию солнца. И всегда весел, всегда насвистывает или напевает без слов.
Но вот кто работает поистине за десятерых, так это Сережа Козырев. Дежурит как радист, помогает в качестве лаборанта Иннокентию, Барабашу, Мише, Яше, и как-то так получилось, что он стал механиком по приборам. У кого что сломается или заест, несут для починки Сереже. Мало того, он стал конструировать и совсем новые приборы, чем привел в восхищение и Иннокентия и Барабаша. Подумать только, родители считали сына ленивым. Это Сережу-то?! Конечно, я как слесарь (с приборостроительного завода, не забудьте) помогаю ему. Но конструктор из меня неважный.
Вечерами мы все иногда смотрим фильм (Сережа — за киномеханика!), иногда танцуем — если не слишком качает. Иннокентий обычно, если выпадает свободный часок, сидит согнувшись над шахматами либо с дядей, либо с капитаном или штурманом.
Если кто хочет читать, идет ко мне: я по совместительству и библиотекарь (разумеется, на общественных началах). Библиотека на «Ассоль» хорошая… Не на каждом судне имеется такая. Ее пополнили начальник экспедиции Иннокентий Щеглов, доктор Петров и капитан Ича, перевезшие на корабль свои домашние библиотеки.
В помещении судовой библиотеки книги не поместились, и я поэзию перенесла в свою каюту, фантастику — в Сережину, чем он был крайне доволен: Так что если кто хочет прочесть что-либо из фантастики, обращается, минуя меня, прямо к Сереже. Сугубо научной литературой ведает сам Иннокентий, и разместили ее в лаборатории.
Когда хотят потанцевать или послушать музыку, обращаются к Яше — он ведает пластинками. Больше всех танцевать любят Лена и Миэль. Иногда даже вдвоем танцуют.
Днем Лена Ломако чаще всего что-нибудь красит или моет. Миэль помогает коку. Выглянет из камбуза разрумянившаяся, вздернутый носик блестит, волосы аккуратно подобраны под белым поварским колпачком.
Но после ужина (вахта у них обеих лишь днем, как и у меня) обе принарядятся, причешутся, туфельки на высоком каблучке — и являются в кают-компанию, как в Бакланах — в клуб.
На днях было общее экспедиционное собрание в кают-компании, после ужина. Выбрали председателя судового комитета — доктора Петрова. Дядя не отнекивался, наоборот, поблагодарил за доверие. (На другой день собрались комсомольцы и выбрали себе комсорга — меня. Вот я отнекивалась: предупреждала, что получается семейственность. Не вняли.)
На собрании капитан Ича рассказал о задачах рейса. Иннокентий подробно ознакомил команду с планом научных работ. Собрание затянулось, никто не спешил расходиться. Как-то хорошо было у всех на душе. Каждый почувствовал свою важность в этом большом деле и личную ответственность. И подумалось, как огромен океан, как мал кораблик и нас так мало — всего-то девятнадцать человек!
Собрание закончилось, а все сидели задумавшись. Кок Настасья Акимовна и юнга Миэль подали внеочередной чай с морскими сухарями. Все оживились и с удовольствием выпили горячего пахучего чайку.
И тогда вдруг матрос Анвер Яланов сказал, обращаясь к Иннокентию:
— Однако, течение это, начальник, есть. Очень быстрое. Попадал я в него… Служил тогда на рыболовном судне «Зима». Было это спустя лет пять после войны. Родители у меня оба умерли, и я подался на Камчатку… На Сахалин сначала.
— Знаешь это течение? — изумился капитан. Узкие глаза его сузились еще больше. — Почему же до сих пор молчал?
Анвер Яланов усмехнулся. Большие черные диковатые глаза его сверкнули.
— А у меня никто не спрашивал. Никто мне не докладывал, что это течение нужно кому-то… Вот сейчас начальник экспедиции рассказал нам, что именно вы ищете, и я понял, что уж побывал там разок… Найдешь это самое течение — найдешь бурю, и не одну. Отпустит с полуживой душой, если вообще отпустит. Мы тогда еле вырвались… Есть поперек того течения остров.
Иннокентий, не перебивая матроса, подошел и сел рядом. Он молчал, но с огромным интересом слушал.
— Запаслись свежей пресной водой, — продолжал Яланов, по-прежнему обращаясь к одному Иннокентию. — Ходили на шлюпках. Судно стояло далеко. Прибой, однако, сильный. Могло разбить судно. На шлюпках проскочили.
Наш капитан сказал тогда: «Нет этого течения на карте. И острова нет. Надо будет сообщить во Владивосток». Не успел сообщить. Умер. Его тогда прямо с судна в больницу забрали… Видно, так никто и не сообщил. Люди больше простые. Рыбаки. Научников ни одного на борту не было. Я тогда перешел на другое судно. А вот сейчас слушал вас, Иннокентий Сергеевич, и понял: то самое течение ищете. А на острове мы сложили пирамидку такую из камней на самом возвышенном месте и вмазали туда железный лист. На листе сам капитан масляной краской вывел: «В марте 1950 года здесь побывали советские рыбаки с судна «Зима». Остров объявляется советским». Наверно, и посейчас та пирамидка стоит, хоть и прошло более четверти века.
Все с удивлением слушали Яланова. Ученые обступили его и стали расспрашивать. Он с готовностью отвечал. По его словам, остров небольшой — километров семь в длину, пять в ширину, но высокий, весь не заливается. С одной стороны течение подмывает и он обрывистый, с другой — пологий. Весь ощерился острыми камнями и скалами, словно в кольце. Похоже, был когда-то вулкан, но затух, и на острове успели вырасти деревья, так покалеченные ветрами, что сразу и породу не определишь. Скалы все в гнездах — птичий базар. На пологой стороне — лежбища котиков…
— Вы говорили кому про котиков? — спросил Иннокентий.
— Нет. Пускай себе живут как хотят.
— А почему теперь сказали?
— Думаю, что нам того острова не миновать.
— Где же, по-твоему, искать то… течение? — медленно спросил капитан. Мне показалось, что Ича недолюбливает почему-то Яланова.
— Там, где ищете, — холодно ответил матрос. — Оно зимой отклоняется градусов на пять.
— Как я и думал! — торжествующе воскликнул Иннокентий. Капитан с досадой взглянул на матроса, но более ничего не сказал.
— А остров? — с детским любопытством спросил Миша Нестеров.
— По течению на юг, — почему-то грустно ответил Яланов. Так я впервые услышала об этом острове…
Странно, что ничего, кроме естественного интереса, я не испытала. Никакого предчувствия! И смотрела я не на матроса Яланова, который рассказывал, а на Иннокентия, который молча слушал. Я ничего не могла с собой поделать. Едва Иннокентий появлялся в пределах видимости, как глаза мои неизменно поворачивались на него, словно магнитная стрелка к северу внутри компаса. До чего же прекрасное лицо, голова кружилась, когда я смотрела на него. Другие люди, к моему великому удивлению, ничего подобного не испытывали. Они вообще смотрели на него как-то спокойно и даже могли вовсе не смотреть!
А эти неулыбчивые, как и у его сестры, глаза! Никогда не могла понять, была в них скрытая сила или слабость? Богатый духовный мир, неповторимая индивидуальность, но был ли он добр, хотела бы я знать. Этот характер был полон противоречий.
Он был красив, и это было для него лишним, раздражало его. Заметно старался он не подчеркнуть, а, скорее, погасить эту ненужную ему красоту, недостойную умного мужчины. Оттого небрежность в костюме, оттого короткая стрижка. Он явно пытался покрепче загореть, но кожа не поддавалась загару, обветренное лицо все равно оставалось матовым.
Зато я загорела и обветрилась сверх меры, как цыганка, только глаза посветлели.
Обычно когда у меня выдавался свободный часок для библиотеки, туда заходил наш боцман Харитон. Он любил порыться в книгах, а выбрав, чаще всего Бунина, Тендрякова, Солоухина, усаживался возле моего столика отдохнуть. (Работы у него хватало, тем более что плотничьи работы без него не обходились— на «Ассоль» не было хороших плотников.)