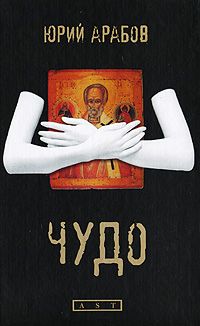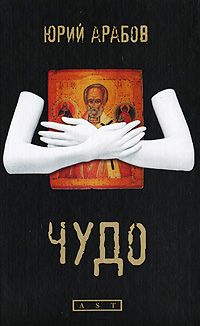Догадка эта не была подобна молнии, для этого она казалась слишком простой и очевидной. В своей прошлой жизни Татьяна постоянно была с людьми, затевала ли очередную гулянку или шла на завод в компании смурных и невыспавшихся подруг. Но это была жизнь для себя за счет других людей. Ей все время было что-то от них надо – от бутылки беленького до сочувствия к своей не слишком изломанной судьбе. За счет этих людей, на их головах и плечах она старалась возвыситься, опереться, облокотиться, влезая куда-то, как по ступеням. Но куда именно, она и сама не знала. Семьи ей никогда не хотелось, мать она не любила, природу не чувствовала, не отличая металлической болванки от живого дерева. Собака для нее лаяла, человек говорил, птица летала – и все. Теперь же вдруг, стирая пену с губ у соседки, которая вошла на полу ее избы в нешуточный транс, Татьяна поняла, что должна жить именно для этой несчастной, для людей, которые тянулись к ней, даже для этого фальшивого китайца, что хотел взять силком у нее мочи.
Быть с людьми не значит жить для них. А она теперь хотела именно этого – жить для них, всю себя отдать. И если был в жизни выбор, стать ли молотком или гвоздем, стать ли катком или асфальтом, то она предпочитала последнее – гвоздем! асфальтом! А молоток пусть сам несет ответственность за собственные удары.
Ей стало весело. И это веселье от обретенного смысла грозило вылиться в нечто большее. «Ну, гнет!.. Ну, гнет!..» – орал горбоносый, катаясь по полу и натыкаясь спиной то на печь, то на стол со стульями. «Вот!.. Опускается!» – заорал он, указывая пальцем на закопченный потолок.
И оказался прав. В дом явились мрачные санитары. Но повязали почему-то не горбоносого, который тут же поднялся и начал стряхивать с себя пыль, а ее, Татьяну, собравшуюся служить людям и быть всегда среди них... Это было логично.
Ее вели по длинному темному коридору в приемный покой. Таня была чем-то похожа на Жанну д’Арк – простоволосая, готовая для вечности и для костра...
Здание давно требовало капитального ремонта. Штукатурка отслаивалась. С потолка капала весенняя влага.
Двое санитаров завели ее в какой-то кабинет. Врач туманно глянул на нее поверх очков. В его взгляде было столько мути, что Татьяна не выдержала и расхохоталась. Какая муть, зачем? Ведь он был самым счастливым человеком на свете, он не только служил людям, но знал точно, как это делать. Вот уж действительно повезло. Чего еще желать?
А врачу стало от этого смеха чрезвычайно горько. Он смутно слышал о происшествии на улице Чкалова и вывел для себя, что этим делом должен заниматься психиатр. А тут ему, профессиональному терапевту, привезли явную прости господи, дурочку и попрошайку, и он должен тратить свое драгоценное время на никому не нужные, бесполезные действия над чуждым ему биологическим материалом.
– Раздевайся! – буркнул он, не имея силы обращаться к этому человекообразному существу на «вы».
Для него весь мир был биологическим материалом, иногда вредным, чаще – податливым, если его резать скальпелем. Терапевт имел сильные кряжистые руки, поросшие черными волосами и разбивавшими полено колуном с одного раза. Кулаком он заваливал хряка. Так он хотел и лечить, как дрова рубят. И многое на этом пути удавалось. Онкологию он сразу отправлял в Свердловск, аппендициты могли удалять здесь, а от повышенного кровяного давления средств не было, кроме магнезии, болезненного и даже вредного для всего живого укола. Так что судьба его в целом удалась, сложилась, за исключением конфликта с дочерью, которая неделю назад отчего-то плюнула ему в лицо за вечерним чаем.
– Раздевайся! – повторил он, все более раздражаясь, потому что ему вдруг представилось, что это стоит перед ним его ненавистная дочь.
Татьяна не сделала ни малейшей попытки расстегнуть даже одну пуговицу. Она поняла значение слов, но они для нее были пустыми – она и так чувствовала себя голой, открытой миру, и ничуть не стеснялась этого.
Тогда ее раздели насильно. Санитары с остервенением содрали кофту и платьице, хрустнувшие, как сухие ветки, сорвали комбинацию грязно-морского цвета, которые тогда носили повсеместно.
Повалили на незастеленный топчан.
Врач поглядел на нее мельком, испытав острое наслаждение оттого, что кто-то в его присутствии завалил вполне пригодную девицу, во всяком случае, для естественнонаучных изысканий.
Ножка от топчана шаркнула об пол. Левая рука пациентки, стесненная в пространстве, оперлась на отштукатуренную стену, вечно холодную даже летом.
Он навел на нее стетоскоп и прослушал легкие сначала между грудей, подростковых и маленьких, затем не удержался и решил исследовать в районе длинного и темного, словно чернослив, соска.
Хрипов он не обнаружил и с сожалением поднял ее словами:
– Вставай давай! Чего разлеглась?
Татьяна поднялась, инстинктивно прикрываясь руками. Она жалела этого человека и радовалась за него одновременно. Жалела, что он нервничает и дергается, наверное, сильно устает. И радовалась оттого же – этот симпатичный врач с квадратной челюстью и нескромными волосатыми руками хочет ей искренно помочь.
– Открой рот! И сделай «а-а»...
Он засунул ей в рот ложечку и вдруг вспомнил, что до этого не поместил ее в специальный раствор. Кого он исследовал с помощью этой ложки до нее? Надеюсь, не больного скарлатиной? А может, это сделал его сменщик, Иваныч, которому было, как и ему, все равно – скарлатина ли, холера, тиф...
Горло, нёбо и зубы были вполне пригодны для дальнейшего существования на этой позабытой Богом земле. Ему бы, завзятому курильщику, такое горло, ему бы такие зубы...
– Пошла давай, – сказал он ей, словно скотине.
Поставил голую Татьяну на весы, начал перемещать гирьку на железной планке с цифрами...
Пожал плечами, потому что ничего не подтверждалось из чудовищных, разнесшихся повсюду слухов.
Подвел под деревянный шест и измерил, на всякий случай, рост.
Радость Татьяны здесь стала особенно острой, потому что она почувствовала скорое завершение медицинской процедуры.
– Можешь одеться.
Он записал что-то в журнале и вышел в другую комнату.
...А в ней томился Михаил Борисович Кондрашов. Левая половина лица его была перевязана черной лентой, делавшей его похожим на лихого, рассчитавшегося со всеми пирата. Искусственный глаз его разбил в прошлом месяце Первый секретарь ЦК КПСС. Он поместил осколки в специальную коробочку и наклеил на ней бумажку с надписью: «Н.С. Хрущев. Апрель 1956». Еще целых восемь лет он будет показывать всем эти осколки как величайшую реликвию. А потом, когда Хрущева снимут и развенчают, этот же глаз послужит уликой в волюнтаризме, который докатился в пятидесятых аж до далекого от Москвы Гречанска.
– Что? – спросил Кондрашов, вздрогнув от появления терапевта.
– В норме, – сказал врач. – Вы кого мне привезли?
– Ее, – ответил Михаил Борисович. – Она 120 дней стояла.
– Никаких следов особого истощения. Худоба естественна. Вес – 58, рост 171. Легкие чистые... Зубы, как у новорожденной.
– А психика?
– А вот с психикой увольте. Психика – не по моей части.
– Ладно, – пробормотал Кондрашов, неожиданно обидевшись. – Если вы бессильны, то милиция разберется, – он полез в карман штанов и вытащил оттуда лежалый леденец.
– За труды! – и вручил его врачу.
Тот поднес вплотную к глазам, чтобы рассмотреть обертку, развернул ее и, дабы не обидеть уполномоченного, запихнул леденец в рот.
Кондрашов вышел из комнаты.
Терапевт сразу выплюнул леденец себе в кулак.
Ее снова посадили в железную «скорую». Ветка березы с молодой листвой сдвинулась и осталась позади. Машина взревела и помчалась со всей мыслимой для себя скоростью по кочкам, колдобинам, рытвинам и ухабам.
Она сидела меж двумя санитарами и раскачивалась вместе с ними. Давешняя радость слегка притухла, улеглась, словно поднявшееся тесто снова ушло на дно кастрюли.
Жизнь была в целом исполнена света. Но в ней был один, внешне не очень заметный аспект, нагонявший на солнце легкое облако. Таня вдруг поняла, что люди терзают друг друга, выпивают кровь, наворачивают на руки кишки и от этого обретают внешнюю силу. Сила эта была чрезвычайно забавной, потому что не отменяла смерти того, кто пьет, терзает и наворачивает. Как они умирают потом, эти пьющие и наворачивающие? В блевоте, в ужасе смерти, в полном одиночестве и пустоте, потому что коллективной смерти не бывает даже тогда, когда тебя ведут гуртом в газовую камеру. А как служить им, наворачивающим, каким образом? Ведь они и твои кишки тогда навернут. И какая это служба, расплачиваться с кем-то и помогать кому-то своими собственными кишками? А если так, то радоваться этому, в общем-то, нечего. Разве что объяснить всем людям, что пить чужую кровь не совсем хорошо и точно уж не рационально? Но ее язык, особенно сейчас, после 120-дневного стояния не был приспособлен для слов. И она внутренне притихла, подозревая, что муки для нее не кончились, а, скорее, продлевались на неопределенный срок. А служить надо, в этом она была непоколебима.