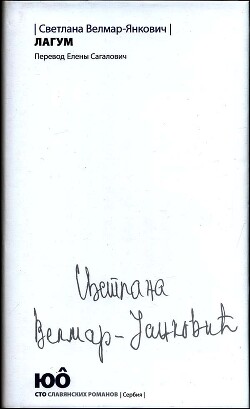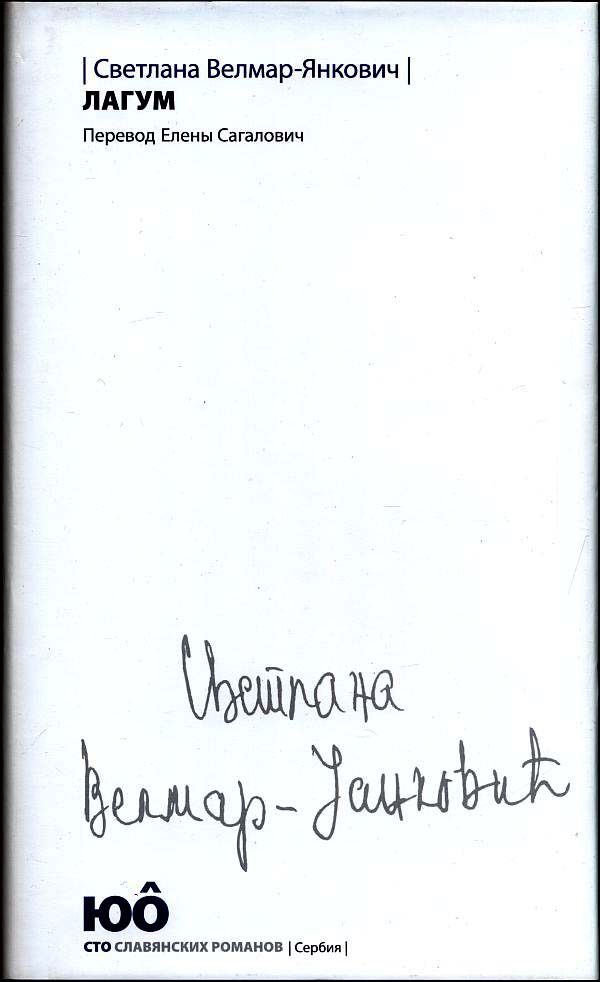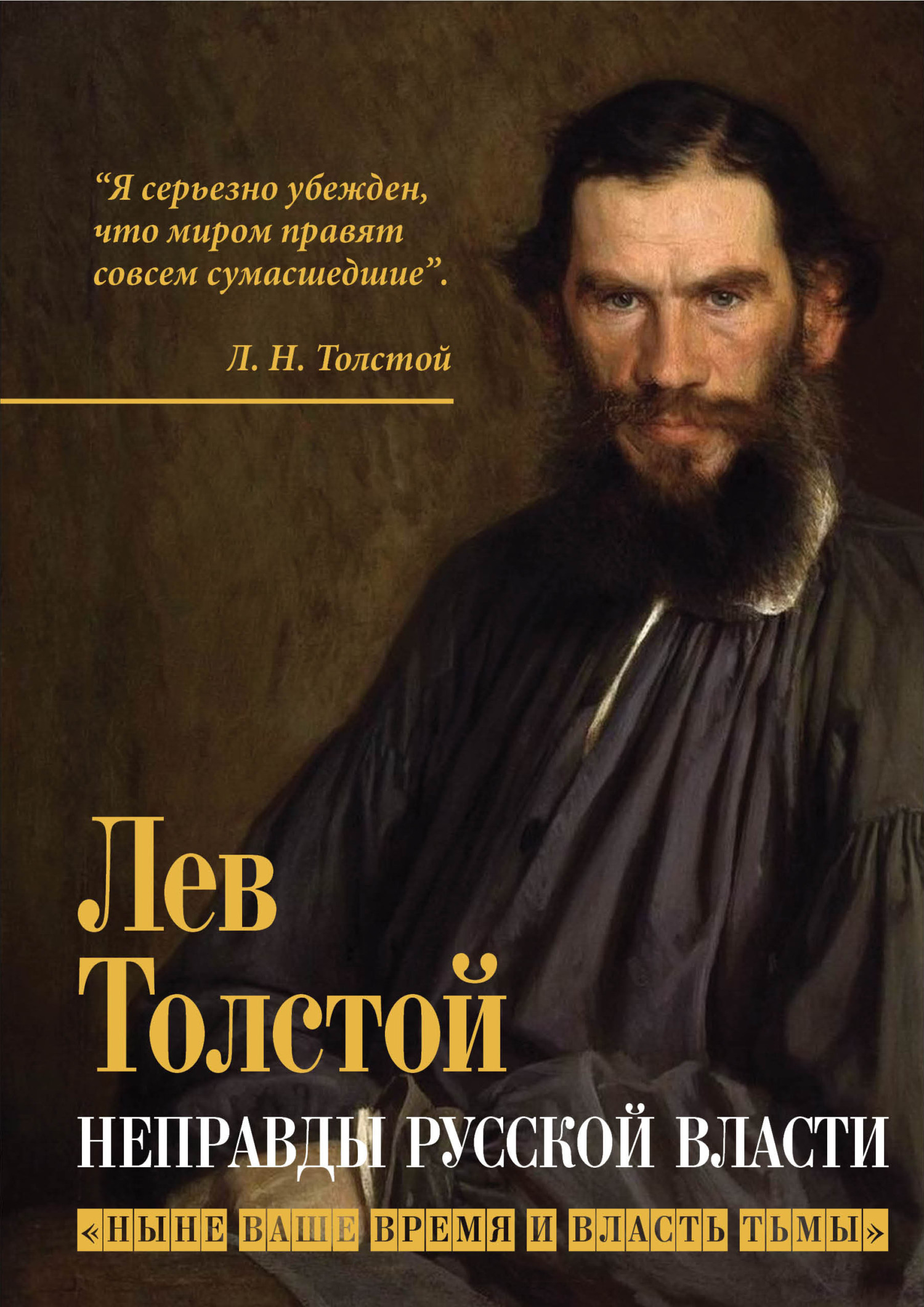Тишина становится все глубже. Мария в своем бунте против гётевского носителя идеи вечного зла этого не замечает, Веле, может быть, уютно в его долгом путешествии по пресным водам мира, с угрями, а позвякивание Зориных спиц все-таки потихоньку разрывает это молчание, потому что все быстрее и резче в девушке нарастает напряжение; Душану еще рано возвращаться домой, иногда он приходит совсем поздно, после 20 часов, когда уже начинается комендантский час, у него есть разрешение передвигаться по ночам, так называемый Ausweis. Но обычно он бывает дома около 19 часов и поступает по установленному порядку: идет в ванную, умывается и переодевается, быстро, а потом, не спеша, расспрашивает детей, Марию и Велю, замирающих перед ним, как амфибии перед игуаной, хотя он никогда не повышает голос и не теряет терпения. За ужином беседует, больше всего с Зорой, и только тогда словно бы исчезает его резкая строгость, которой он придерживается в беседе с Марией и Велей, а иногда проглядывает что-то, похожее на нежность: моя новая дочь действительно профессорская любимица и его foible [76], и не только потому, что перед ним она всегда уравновешенная и меланхоличная, но сильная, как гладиатор — истинное воплощение патриархальной добропорядочности и телесного здоровья, — мало говорит и еще меньше требует, но еще и потому, что умеет получить все, что пожелает, не требуя.
— Это дитя претерпело настоящие ужасы, — сказал мне однажды профессор Павлович.
(Однажды, когда мы, а это случалось все реже, прервали молчание, скопившееся между нами и уже изрядно затвердевшее, чтобы договориться о деталях совместного поведения в доме, перед ними.)
— Мы должны ее насытить нежностью, чтобы она пришла в себя.
Мы ее насыщали, все.
Тем тишайшим поздним январским днем, оккупационным, моя взрослая дочь, которую мы все напитываем нежностью, поднимает взгляд от своего вязания и от своей книги — образцовая сцена с образцовой девушкой Зорой — испрашивает разрешения сходить в гости. Совсем недалеко, этажом ниже, на первый этаж, к ее подруге, молодой жене нашего Милое, привратника. (Зора, разумеется, всегда говорит господин домоуправитель.) Ей известно, что я не в восторге от этой дружбы, в последние месяцы все более близкой, но девушка и на это имеет полное согласие своего приемного отца, профессора Павловича, поэтому к его согласию я могу лишь добавить свое, совершенно формальное разрешение, которое Зора, из вежливости и предупредительности по отношению ко мне, испрашивает каждый день в послеобеденные часы. И в этом сейчас января 1943-го, не знаю, какой это был день недели, я разрешаю ей идти, и тогда моя взрослая дочь встает, аккуратно убирает вязание в корзинку для рукоделия и закрывает книгу. Фразы, которые, навечно осуждена с мукой выговаривать Мара, наложница, выползают из тишины над столом и прячутся в красный переплет, это гётевский Мефистофель, применяя свою веру в осмысленность зла, еще раз отбрасывает в никуда возвышенную мысль мадам де Севинье, и тишина опять взрывается, неслышные фразы неслышно крошатся и исчезают: это наша Зора шепотом объясняет, что, если я согласна, она бы со своей подругой договорилась о совместном посещении празднования дня Святого Саввы, которое состоится в Фонде Колараца [77] на следующий день после Саввиного дня, в четверг, 28 января. Мой самый старший ребенок надеется, что я не буду возражать, там будут выдающиеся оперные певцы, и знаменитые актеры будут читать произведения знаменитых писателей. «Nein, — это произносит, наверное, Мефистофель, — Ich habe nichts dagegen» [78]. Если он ничего не имеет против, то я очень даже против посещения торжеств в оккупированном городе, и неважно, по какому поводу они проводятся, и кто в них участвует, но не говорю ничего, потому что профессор Павлович нашей Зоре разрешит пойти. На этом вечере, — добавляет она, чтобы смягчить мое непроизнесенное несогласие, — который начнется в 17 часов 15 минут, чтобы закончиться до наступления комендантского часа, будут выступать и те двое танцоров, чьих имен моя двадцатидвухлетняя дочь никак не может вспомнить, хотя неизменно наслаждается, глядя, как они танцуют. Балетные танцоры.
— Наташа Бошкович и Милош Ристич, — подсказываю я.
— Да, они.
И уходит, такая крупная, но проворная. После нее остается пустота, которая постепенно заполняется чтением, хотя я догадываюсь, что и в девочке, и в мальчике, махнувшим Зоре на прощание, продолжается свой монолог, содержание которого я никогда не узнаю. Молчание становится все более глухим, мрачным, я больше не слышу ни Мефистофеля, ни мадам де Севинье, они вдруг ускользают в свою или, может быть, в какую-то другую эпоху, мой взгляд, в состоянии этого внезапного внутреннего бдения, падает на заголовок в газете, она лежит сложенная, на краю стола. Невольно его читаю, и этот заголовок навсегда поселяется, — но я тогда об этом не имею ни малейшего понятия, — в моей памяти по совершенно непонятным причинам, а поэтому и сейчас, спустя сорок лет, я абсолютно четко его вижу: крупный черный шрифт по верху трех центральных столбцов первой полосы «Нового времени», сверстанный в две строки — Остановлено советское наступление в районе реки Дон. Уперев взгляд в этот заголовок, я впервые действительно понимаю, что «Новое время» больше не сообщает ни о тяжелых советских потерях, ни о стремительных прорывах вермахта на Восточном фронте, что в этих сводках, поступающих из ставки вождя рейха, изменилась не только информация, но и интонация, что для немцев сейчас стало очень важно не то, что советские наступления отражены, а то, что они только остановлены, хотя всего лишь на момент неизвестной продолжительности; что на первых полосах все больше фотографий немецких солдат и бронетехники в снегу, скованных льдом, в борьбе с тяжелейшими условиями русской зимы. Год назад не могло быть даже упоминания о советских наступлениях, говорилось только о советских потерях и отступлениях. Русская зима тогда еще выглядела особенностью природы, которой не испугать неустрашимого солдата вермахта и не остановить неудержимые бронетанковые соединения третьего рейха.
В то время, когда я осознаю, что заголовок в «Новом времени» говорит о поражении, которое в разгаре, о бессилии немецкой армии, о мере немецких успехов, которая исчерпана, и теперь, очевидно, поворачивается к своему отрицательному полюсу, к погибели; о Сталинграде, который все-таки не падет, а устоит, как страшный поворотный пункт, тогда это осознание вызывает у меня и огромную радость, и сильный страх, и на улице Досифея, 17, на втором этаже, в тихой квартире господина профессора Павловича начинаются драматические события.
Причиной становится наша Зора, внезапно вернувшаяся. Она вошла, не затворив двери между столовой и прихожей, стоит надо мной, взволнованная. Это волнение настолько сильное, что исходит от нее импульсами, Мария уже поднимает голову, и Веля тоже, оба смотрят на нее вопрошающе. И я смотрю вопрошающе, потому что лицо Зоры не розовое, как всегда, а необычное, оно бледное, я понимаю, она хочет поговорить со мной наедине, мы идем в «зимний сад», нет, не здесь, на кухню, нет, не здесь, идем в комнату горничной, где с давних пор не живет никакая горничная, никакая молодка, как сказала бы моя бабушка, комната горничной стала своего рода кладовкой. Здесь, на застеленной кровати, лежали и картины, которые я не знала, куда девать, куда повесить, потому что они мне не нравились, и старые пальто, и чистые шерстяные одеяла. Я стучу зубами от холода, стены комнаты для горничной по всем углам покрыты сверкающим инеем, но вопрос в том, стучу я зубами только от холода или от ожидания, я уже догадываюсь, а в глубине души и знаю, что приближается какой-то неизвестный, огромный рубеж, резкий обвал, разрыв судьбы.