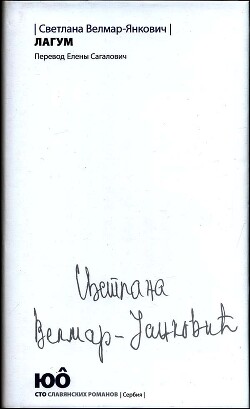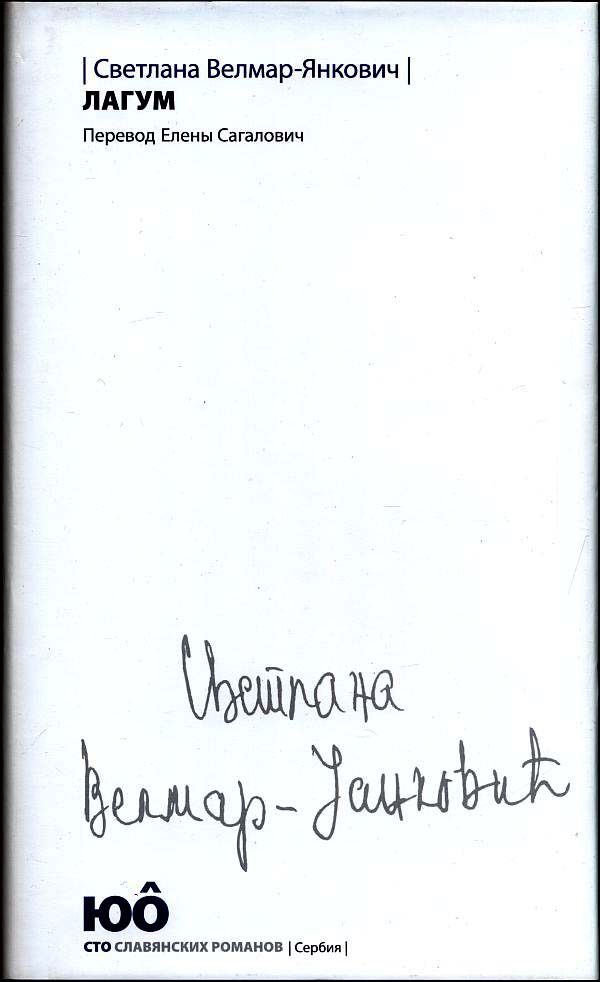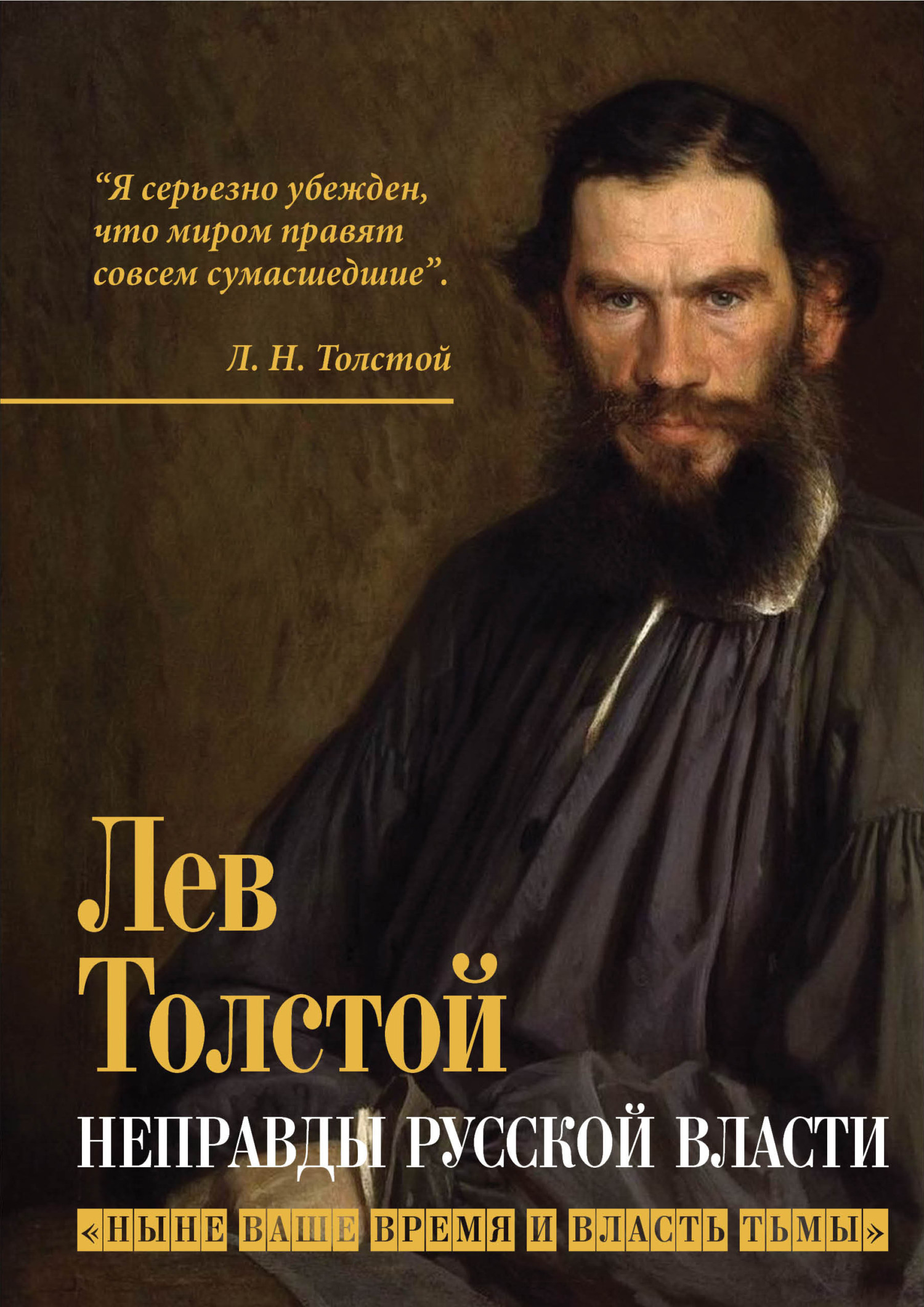Если наша Зора своей просьбой обрадовала господина профессора, то и господин профессор своим разрешением обрадовал нашу Зору. На радостях она в тот же вечер взялась наводить порядок в своем уголке, что выглядело совершенно естественно, и что ей в этом помогали, прежде всего, дети, а потом и я. Дети, до тех пор, пока им было пора отправляться спать, я, пока профессор Павлович работал, грея пальцы над электроплиткой, в своем кабинете, — это слово наша Зора произносила с особым пиететом, называя так рабочую комнату профессора Павловича, своего названного отца. Когда мне стало понятно, что и я могу отправляться спать, до того, как муж закончит свою работу, то есть, иными словами, с помощью мадам де Севинье, спрячусь в чтение, наша Зора осталась заканчивать уборку. Мы обе знали, что нас ожидает ночь, полная неизвестности, но мы как будто не принимали этого всерьез. Так или иначе, около полуночи, комната, прежде называвшаяся комнатой для прислуги, была не только убрана и вымыта, но даже немного прогрета.
(Позже, призывая воспоминания об этом вечере и ночи, я опять удивлялась Зориной уверенности, с которой она наперед распоряжалась поведением и чувствами господина профессора. Помнила я и фразу, которую она произнесла прежде, чем господин профессор только подумал уступить ей свой маленький обогреватель: Есть и тот маленький обогреватель. Она не сомневалась, что он отдаст ей необходимый ему обогреватель, как и не усомнилась, что получит разрешение перебраться в комнату для прислуги. Она все знала. Все предвидела. А я — ничего. Не знала, не предвидела. И не видела.)
После полуночи в бывшей комнате для прислуги было сделано и самое важное: застеленная постель была немного отодвинута от стены, чтобы к раненому можно было подойти с двух сторон. В кладовке рядом с комнатой была поставлена узкая раскладушка, для нашей Зоры, санитарки. Там мы спрятали и аптечки фирмы «Байер», и марлю, вату, бинты, ножнички и пинцеты, простерилизованные в долго кипевшей воде, и лекарства, которые я до этого вечера берегла, как драгоценность. Я даже припасла пронтозил, один из первых сульфамидных препаратов, который берегла на случай, если у Вели случится одна из его тяжелых ангин. Но с тех пор, как вместе с войной случился дефицит продуктов, ботинки на деревянной подошве, так называемые «деревяшки», сон в комнатах с ледяными стенами не менее пяти месяцев в году, у Вели не было даже насморка, не то что ангины. Так и пронтозил оказался в кладовке, вместе с остальными припрятанными лекарствами, чтобы спасать Павле Зеца от сепсиса.
Я лежала на боку, свернувшись клубочком, неподвижно, когда Душан пришел в спальню. Он почувствовал, что я не сплю, хотя я изо всех сил старалась уснуть. Так мы в темноте и молчании, каждый на своей половине кровати, отвернувшись друг от друга, обманывали друг друга, притворяясь, что спим. Потом, похоже, оба уснули, измученные этим подслушиванием. Ничто не нарушило наш сон, никакой шум, когда глубокой ночью, наверняка совершенно неслышно, наша Зора и наш привратник Милое переносили раненого, в одеяле, через черный ход и по нашему балкону, из квартиры привратника к нам. Ничего не было слышно, ни когда они его умыли, перевязали, закутали, попрощались. Съежившись на узком топчанчике в холодной кладовке, осталась дежурить с раненым и включенным обогревателем, сейчас в его, а когда-то комнатке для прислуги, наша Зора, защитница.
Перед этим она заперла двери, ведущие на кухню, так и раненый, и она остались в иллюзорной безопасности.
Когда я в первый раз проснулась, тишина в ледяной ночи отзывалась подземной рекой. Я споткнулась о ночь, как о черный шар, крутящийся на месте.
Вторая ошибка: его нес не Милое. Куда там. Несли его мы с Зорой. Милое так трясся, что себя-то не мог нести. Его жена была намного храбрее. Он боялся: «Вдруг кто-нибудь придет. Услышит господин профессор, и тогда нам конец. Немцы нас всех арестуют. Переловят. Расстреляют». Милое оставили караулить. Он умирал от страха. А получилось все легко. Мы его мигом перенесли. В одеяле, в которое я кутался в лавке. Товарища «Высокого». Первая ошибка: он был ранен не только в плечо, но и в бедро. Я его перевязал. Обнаружил его на моем складе, за бакалеей. Сюда он добрался из подвала на Досифея, 17. Мы были хорошо знакомы: с 1941-го, состояли в одной ячейке. А потом он исчез. Был слух, что его перебросили на освобожденные территории. Крупная шишка. Постоянно при Верховном штабе. Он рисует. Наших партизан. Сражения. И самого Верховного главнокомандующего. А потом я застаю его проникшим на склад. Раненого. Без сознания. Ослабевшего. И в опасности, черт бы его побрал.
То, что я за те два месяца навсегда выучила, это математика невероятных ситуаций. По моему опыту, главное правило этой математики содержит три постулата, а звучит это примерно так: одна плюс одна (1 + 1) невероятная ситуация не дает две невероятные ситуации, а одну вероятную; сумма нескольких невероятных ситуаций равна одной невероятно вероятной ситуации; невероятные ситуации плодятся сами по себе.
Согласно этому правилу, мы начали с двух невероятных ситуаций, которые сложились в одну вероятную. Первой была та, в которой находился Павле Зец, вторая — та, в которой находилась я. Этот, тогда уже известный художник, и, бесспорно, еще более известный член движения сопротивления, лицо, как я узнала намного позже, приближенное к Верховному главнокомандующему партизанской армии и его портретист, лежал, беспомощный, в квартире господина профессора Павловича, известного почтенного советника коллаборационистского правительства во главе с генералом Миланом Дж. Недичем, особенно по вопросам беженцев из Независимого Государства Хорватия и Венгрии. Следовательно, не единственный парадокс этой невероятной ситуации состоял в том, что неистовый коммунист скрывался в квартире неистового антикоммуниста, правда, без спросу. Дополнительных парадоксов была еще масса, а из менее существенных тот, что красный подпольщик не так давно был сотрудником совсем не красного сотрудника коллаборационистского правительства, хотя по многим вопросам с ним не соглашался. Сейчас он с ним не соглашался ни в чем, но без зазрения совести использовал безопасность его дома, как раньше использовал безоговорочность его толерантности. Я, в качестве супруги профессора Павловича и последовательницы учения моей бабушки, госпожи Цаны Джорджевич, придворной дамы королевы Наталии [79], позволяла осуществиться этой цепочке парадоксов, что, в свою очередь, тоже было в некотором смысле парадоксом: еще в раннем детстве моя достопочтенная бабушка мне внушила, что есть вещи, которые никогда и ни за что нельзя делать. Первое: свой и свое (человек, родственник, друг, единомышленник, убеждения, отечество) нельзя предавать, никогда. Моя бабушка повторяла, что предателей всегда настигает ад, и не тот, что после смерти, он настигнет в свой черед, а еще при жизни, прежде всего, здесь, хуже любого ада тот, что ад собственной совести. И так я, госпожа Павлович, которая с начала войны обескураживала и своего мужа, и саму себя строгостью собственных нравственных принципов, сейчас делала за спиной этого мужа то, с чем сама, по сути дела, не была согласна. Я предавала его в его же доме, в нашем общем доме, уверенная, что поступаю так ему на пользу. Я предаю его ради его же пользы, Господи Боже, но при этом не задумываюсь о том, что буду делать с адом собственной совести!
(В том искаженном сейчас я даже не задумывалась, что с первыми двумя полноправно связана и третья невероятная ситуация, та, в которой, не ведая, и не по своей воле, как-то так говорит Дис [80], не так ли, оказался и сам господин профессор Павлович. Его ситуация была самой невероятной, но мое сознание, очевидно, в то время склонное к большому самообману, было склонно пренебречь и этим фактом.)