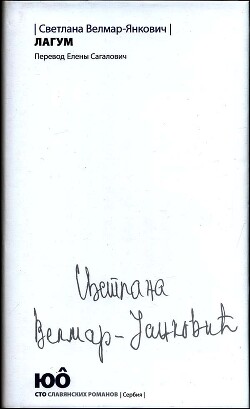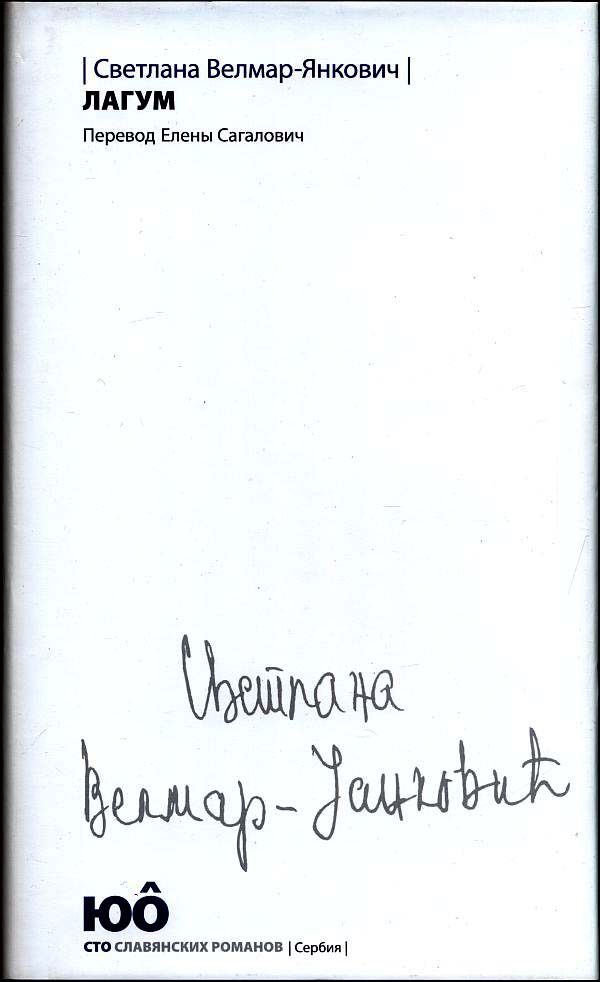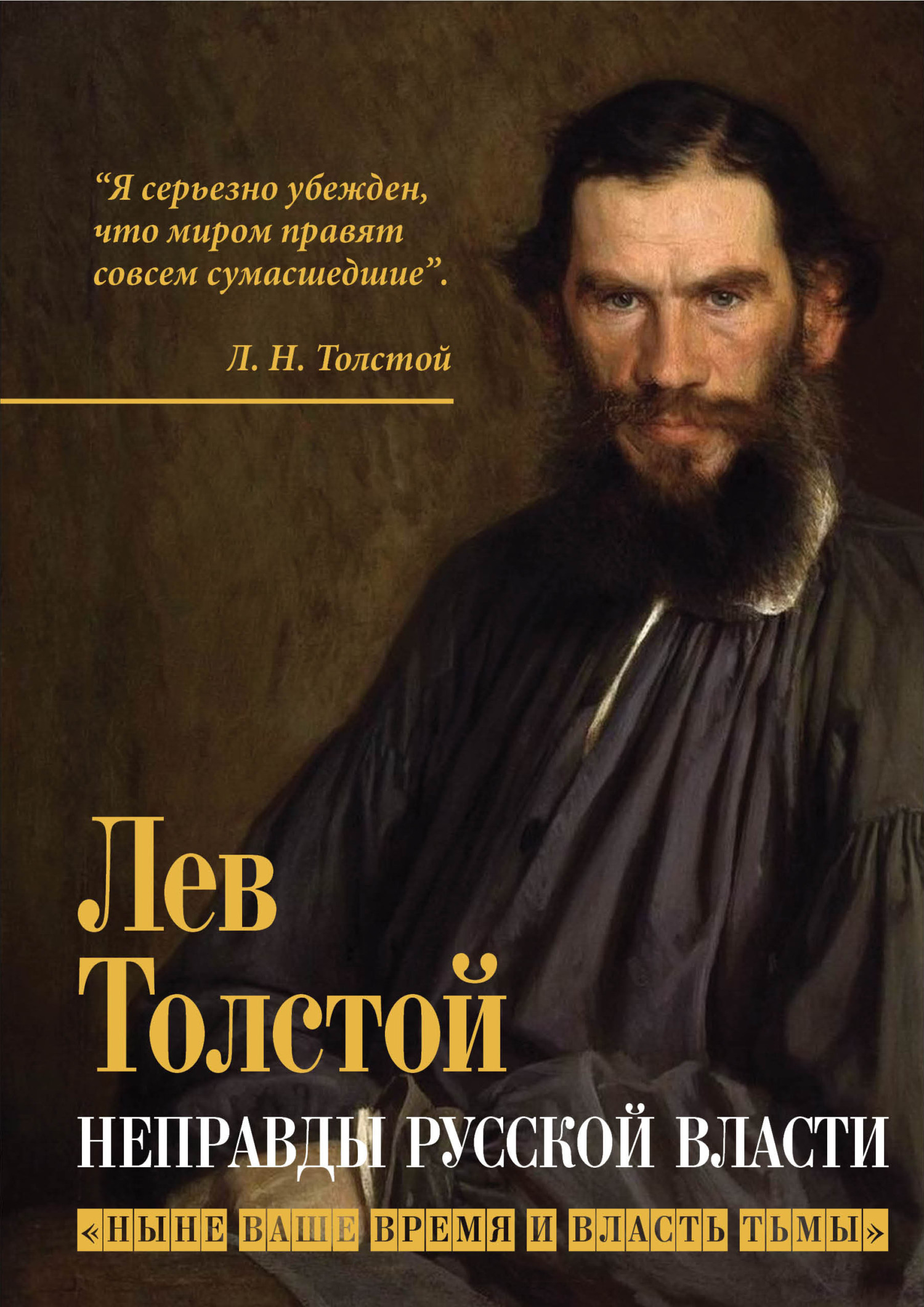В любом случае, в голове совершенно не укладывалось, что развитие невероятных ситуаций в наиболее вероятную реальность с самого начала протекало без каких-либо затруднений. Именно протекало. Никто нежелательный не узнал о перемещении раненого из квартиры господина домоуправителя в квартиру господина профессора. Никто, почти два месяца, сколько товарищ раненый находился в этой второй квартире, ничего не узнал ни о товарище, ни о его пребывании. С первой же минуты организация жизни в квартире-убежище, которая могла бы показаться сложной, оказалась простой: раненый Павле Зец лежал в комнате для прислуги, точнее, в так называемом личном уголке нашей Зоры, чей, так сказать, сестринский пост был в кладовке. Всегда, когда в квартире находились профессор и дети, и комната для прислуги, и кладовка оказывались, как бы случайно, заперты на ключ. Ключницей, тюремщицей и санитаркой была наша Зора, которая в то же время, и даже больше обычного, была и старшей сестрой, и подругой, и любимицей, в зависимости от того, с кем она в тот момент общалась, в какой части квартиры, и в какое время дня. Раненым она занималась, когда дети были в школе, господин профессор на работе, а я на карауле. И ночью, разумеется. (Это было ни злобное, ни двусмысленное замечание. Результат моего стремления к точности.)
У нашей Зоры, как можно заметить, было не только много обязанностей, но и много лиц, а у Павле Зеца была только одна обязанность и множество лиц, тогда невидимых: быть абсолютно неслышным, когда дети утром, в полдень и вечером недолго болтались по кухне или поблизости от кухни, и с этой обязанностью он справлялся блестяще.
(Моя доверенная подруга, однако, никогда мне не доверилась, как ей удавалось держать детей подальше от комнаты для прислуги. Поскольку они с первого дня приняли ее в свой личный уголок, в свою комнату, Мария и Веля считали своим неотъемлемым правом разделить с Зорой, хотя бы иногда, ее приватность и ее уголок. Но они даже не попытались. Предполагаю, что великанша-волшебница, еще в тот вечер, когда обустраивался этот ее личный уголок, придумала какую-то волшебную историю, при помощи которой убедила детей держаться подальше от ее комнаты. Например, самую секретную на свете историю о тайной-претайной любви нашей Зоры, внезапной и большой, но которая должна любой ценой остаться секретом и от господина профессора, и от меня. Надо полагать, это так и было, потому что моя Мария, вообще-то не имевшая склонности к хитростям, в течение этих двух месяцев пыталась именно хитростью не допустить меня на кухню в тот момент, который ей казался неподходящим. И она, похоже, была на карауле: оберегала тайну нашей волшебницы-великанши.)
Мои обязанности — обязанности часового, состояли в том, что часовой должен был развить чувствительность к видимому и сверхчувствительность к невидимому. Результатом ревностного их исполнения была постоянная боязнь, а ее источником — угрызения совести. По сути, на своем передвижном посту, с главной позицией в «зимнем саду», я должна была, в напряжении от страха и мук совести, предотвратить проникновение нежелательных особ, то есть, моих детей и моего мужа, на охраняемую территорию, то есть, в район кухни и помещений рядом с ней. Разумеется, в то время дня, когда они здесь не ожидались, но когда могли бы легко обнаружить не столько присутствие самого раненого, сколько следы такового. И застать нашу Зору в одной из ее тайных ипостасей: профессиональной медицинской сестры или своего рода лаборанта, или гладильщицы. Она все это делала, безупречно. Получалось, что прятать раненого намного легче, чем маскировать разные дела, которые подразумевало его выхаживание: самыми опасными оказались стирка и кипячение белья, например, марли и бинтов, а еще больше — просушивание и глажка этого белья в маленьком помещении кухни, причем в месяцы, когда температура воздуха почти все время была ниже нуля, снег шел, как сумасшедший, а запасы дров и угля таяли так, как будто их пожирал исполин. Тот, Уолта Диснея, симпатичный великан из журнала «Политикин забавник» [81], довоенного, который, к величайшему удовольствию моего маленького сына, в один глоток съедал целую тачку огромных тыкв. Сейчас великан глотал и наш мыльный порошок, и наш уголь, но это вовсе не был добрый диснеевский гигант.
(Господин профессор Павлович никогда себе не позволял воспользоваться ни одной из привилегий, которые, несомненно, были ему доступны, должны были быть доступны, привилегии, которые обеспечили бы его семье и ему лучшее снабжение лучшими продуктами и лучшим топливом. Нет, это было исключено, и я была ему за это благодарна: он защищал нас, я думала, от последствий своего перехода на ту сторону бытия, где были стерты границы между тем, что можно, и тем, чего никогда нельзя делать. Но с момента, когда мы спрятали Павле Зеца в бывшей комнате для прислуги, становилось все менее понятно, на какой стороне я сама оказалась. Прочность моей моральной позиции ежедневно сталкивалась и с жесткостью повседневности, и с шероховатостями мук совести, поэтому моральная позиция набила себе болезненные шишки. Подрывала ее и необходимость добывать дополнительную провизию и все прочее, особенно мыльный порошок, дрова и уголь. Это можно было достать только на черном рынке, но за немыслимые деньги. При помощи нашего привратника Милое тогда, в том феврале и марте 1943 года, я тайком от мужа, как всякая преступница, успешно за бесценок продала свои старые фамильные кольца с брильянтами и целые горсти золотых наполеондоров.)
Самым крупным из всех препятствий было то, что нежелательные (это выражение ввел раненый Павле Зец, его переняла наша Зора и передавала мне; когда я его слышала, то отшатывалась от него, но не отвергала, не отвергла, я даже не протестовала) не должны были почувствовать, хотя бы не каждый день, запах прокипяченного белья, как не должны были наткнуться на любой, пусть даже и крошечный, клочок забытой марли или бинта, оставленный сушиться. И, правда, они никогда ничего подобного не находили, но от запахов белья, прокипяченного в мыльном порошке и высушенного разными способами — рядом с обогревателем, у печки, над включенной электроплиткой, под утюгом — было практически невозможно избавиться. Иногда они проникали даже в кабинет профессора Павловича, несмотря на системы быстрого и частого проветривания, которые придумала наша Зора.
(Вот видишь, и ты, которая в то время была одной из нежелательных, — ты такого даже предположить не могла, не так ли, — сейчас я использовала слово белье, а не веш [82], на немецкий манер, потому что этому контексту соответствует именно белье: когда я неделями караулила в «зимнем саду», а наша Зора неделями, как в старину говорили, доглядывала раненого, при этом с убийственной сосредоточенностью, безупречно, когда мы обе заботились о том, чтобы нас не выдала какая-нибудь мелочь, потому что, очевидно, крупные обстоятельства все еще на нашей стороне, я же этот запах прокипяченного и высушенного белья воспринимала, как чистую угрозу и реальную опасность. Я возненавидела его настолько, что и сегодня, стоит мне подумать об этом запахе или вызвать в ноздрях воспоминание о нем, я всегда называю его запахом прокипяченного белья, и никакие синонимы тут неуместны. Да потому что это запах предательского белья, а не дружественных тряпок.)
Когда я все больше чахла на своем посту в «зимнем саду», сам «зимний сад» словно постепенно пробуждался, хотя еще стоял ледяной февраль, и углы комнаты еще были припорошены тончайшим инеем. Казалось, мой долгий дозор приятен и растениям, и даже мебели в стиле чиппендейл. И растения, и мебель словно оживали: растения начинали интенсивно зеленеть, несмотря на затененность «зимнего сада», мебель интенсивно светлела, несмотря на упрямство своей патины, почтенные персоны с почтенных портретов более пристально всматривались в современность, невзирая на ее безобразие. Стоя на страже, я полировала «зимний сад» и мягкой ветошью, и податливым отчаянием, а, утомившись, садилась у посветлевшего столика. Столешница красного дерева обычно бывала очень холодной, как и моя рука в грязной шерстяной перчатке, но на это мы не обращали внимания, ни столик, ни я. С наших первых совместных сеансов прошло уже почти тринадцать лет, место нашего знакомства, элегантная и удобная квартира на улице Йована Ристича, 21, больше не была ни удобной, ни элегантной: в здание попали первые бомбы-зажигалки, в первом налете немецких «Щук», в первые минуты после семи, воскресным утром 6 апреля 1941 года; мне говорили, она вспыхнула, эта квартира, и горела, и выгорела вся, как и весь дом, целиком, поэтому в том сейчас, в феврале 1943-го, когда мы, замерзший столик и замерзшая я, опять вступили во взаимодействие, на улице Йована Ристича, 21, под порывами снега и кошавы [83], стояли только обгоревшие стены когда-то роскошного здания. Я садилась за столик, проходил февраль, на Восточном фронте, наконец, устоял Сталинград, но 3-я немецкая армия наступала, обозленная, на Харьков, каждую секунду тысячи людей гибли в черноте огрубевшего русского снега, во мраке бешеного тунисского песка, в адских глубинах Атлантики и Тихого океана, в том феврале совершенно неубедительную историю о непобедимости вермахта начала вытеснять лживая историйка о непобедимости немецких подводных лодок, а мы со столиком, соприкасаясь, отсчитывали предчувствие этих смертей вокруг нас, в миллионе обличий, апельсиновый сок и яйцо, которое варили для меня ровно три минуты, принадлежали какой-то забытой фантасмагории; большой конвой, шедший в Англию, писало «Новое время», был потоплен, а дальше писали, что утонуло уже более 25 000 американцев, доктор же Геббельс в своей февральской речи сказал, что атака подводных лодок — это только начало тотальной войны, которую и третий рейх, и его союзники приведут к тотальной победе, а немецкий народ верит в эту победу безоговорочно.