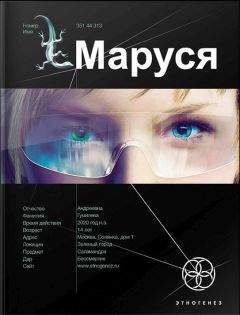Весь этот монолог Маруся выслушала молча и встрепенулась только, когда Боря упомянул их общего знакомого Жору, который работал в „Русской мысли“, но которого оттуда выгнали „когда „Русскую мысль“ перестало финансировать ЦРУ“. Тем временем Боря все подливал себе да подливал из бутылки, которую он обнаружил за коробкой с собачьим кормом, при этом он не преминул заметить, что Оля алкоголичка, что это он ее спас, а то быть бы ей в лечебнице для алкоголиков, и что пить ей нельзя ни в коем случае. Маруся просто онемела от таких откровений, она не знала, что на все это Боре ответить, но к счастью, тут вернулась из магазина Трофимова, с подозрением покосившись на Борю и на Марусю, стала готовить на плите какое-то мясо. А Боря снова ушел в комнату играть в компьютерную игру. Вскоре из комнаты стал доноситься визг и хихиканье трофимовской дочери, и борин довольный басок, как будто он ее там щупал и щекотал, но Трофимова не обращала на это ровным счетом никакого внимания, и Маруся подумала, что ей виднее.
Потом Боря и Трофимова пошли провожать Марусю, а заодно и выгулять собак. Всю дорогу они говорили про домик, который хотели купить тут же, неподалеку. И они специально повели Марусю по парку, вдоль озера — было уже темно, около двенадцати часов ночи — туда, где они присмотрели себе такой небольшой домик с хорошенькой крышей и оконцами, они часто ходили вокруг него, прикидывая в уме, как будет замечательно, когда у них будет такой же, и как бы они его перестроили, „окошечки бы сделать побольше, а дверцы — поменьше, и вместо этой стены поставить бы веранду“.
Марусе с самого начала в этом домике почудилось что-то странное, но она не спешила делиться своими догадками со Трофимовой, а только молча слушала, как они мечтают. И вдруг Боря тихо произнес:
— Бля, да это же сортир. Точно, сортир, — добавил он, обойдя домик еще раз. Трофимова молча подошла поближе и вошла внутрь. В домике было темно, свет не зажигался, но сильно пахло мочой и блестели унитазы. В углу была раковина.
— Бля, сортир… — протянул Боря с явным разочарованием. Трофимова молчала.
****
В Париже на улицах и день и ночь продолжалась жизнь, на углу возле Оперы стоял шарманщик, на плече у него сидела птица, он играл какие-то грустные мелодии, в корзинке у его ног мирно спала собачка, укрытая одеяльцем (потом Марусе кто-то сказал, что они дают собачкам наркотики, чтобы те дрыхли с утра до вечера, а прохожие умилялись), у Центра Помпиду часто прогуливался смуглый, тощий, похожий на индуса продавец сахарной ваты, он выдувал огромные розовые клочья этой ваты из специальной старинной машины, с бронзовыми блестящими ручками и завитками, а на плече у него сидела обезьянка, да и сам город, эти старинные дома, церкви, в которых в любую жару было прохладно, действовал на Марусю завораживающе, она могла часами ходить по улицам, заходя в садики, пила воду из фонтанчиков, гуляла по магазинам…
Особенно ее притягивала Сена — там на набережных, пахнущих мочой, постоянно собирались какие-то юноши и девушки, а также было много клошаров, они сидели, выпивали, закусывали и смотрели на проходящие мимо речные трамвайчики, где горел свет, за столиками сидели веселые люди и звучала музыка. Марусе особенно нравился один деревянный мостик, украшенный цветами и зеленью — туда она ходила смотреть салют ночью 14 июля: огромные огненные шары, спирали, змеи, пирамиды и другие разноцветные фигуры вдруг расцветали на ночном небе, и вся толпа восхищенно ахала. Маруся тоже смотрела и не могла оторваться. Ей совсем не хотелось возвращаться домой, к Пьеру.
Если у нее были деньги, она покупала себе „греческий сандвич“ в Латинском квартале, спускалась к Сене, садилась прямо на набережной, свесив ноги вниз, и глядя на воду, долго так сидела.
В последнее время Марусе было очень тяжело здесь, ей казалось, что счастье осталось там, в далеком сером дождливом городе, где шелестят под ногами желтые листья и так спокойно и легко на душе, и ничего не нужно, а только идти по широким просторным улицам к себе домой.
На крыше напротив сидит огромная серая птица, крылья и голова у нее черные, она что-то сосредоточенно и долго выкусывает у себя под крылом, потом осматривается вокруг и смотрит себе под ноги. Дом из светло-серого кирпича, такой квадратненький, окна выкрашены в желтый цвет, а дверь — в красный. Все предметы в комнате освещаются каким-то новым светом и приобретают враждебный угрожающий смысл и вид.
Иногда под вечер, когда она уже лежала в кровати и засыпала, в голове проносились слова, целые фразы, они были так красиво построены, связаны между собой, но если она вставала, чтобы их записать, то сон сбивался. Но она знала, что если заснет, то они уйдут и никогда не вернутся. Эта невидимая нежная грань между сном и бодрствованием незаметно стиралась, она переходила в другое состояние и засыпала, дыхание постепенно становилось ровным и она погружалась в сон.
Однако, стоило поймать этот момент перехода и как раз тогда толкнуть ее, разбудить, вырвать из сна, создавалось ощущение, как будто она оступилась на краю пропасти и падала туда. Она знала, что, если проделать это несколько раз подряд, все время на этой грани сна и бодрствования, то потом она долго не сможет заснуть, и сердце будет тяжело биться в груди и каждый раз, на грани сна и перед тем, как войти в сферу покоя и темноты, она, содрогнувшись всем телом, в ужасе будет просыпаться, задерживаясь на этой невидимой грани и не решаясь, не имея возможности ее перешагнуть.
Так вырабатывается условный рефлекс, как у собаки Павлова.
* * *
Пьер рассказывал Марусе про свой мистический опыт, о том, как его посетил Святой Дух, как он почувствовал легчайшее дуновение и потом пошел работать на завод, то есть таким образом воскрес для полноценной жизни, а до этого он два года пролежал на кровати и жил, как растение. Это было всего один раз, и он сравнивал это появление Святого Духа со сверхзвуковым самолетом, который, пролетая, вызывает сотрясение воздуха, и от него дребезжат стекла.
Когда Пьер стал православным, ему в качестве общественной работы поручили помогать Сюзанне, она была парализованная, но не вся, а частично, руки у нее были иссохшие, и она ходила как зайчик, прижав их к груди, ноги у нее еще функционировали. Однажды она позвонила Пьеру и сказала, что у нее еще и рак, он пришел к ней, чтобы навестить и увидел у нее на носу между выпученных рачьих глазок наклеенный пластырь, и она дрожащим голосом сообщила ему, что там и находится болезнь. Сюзанна рассказывала ему, что в детстве, когда она была еще маленькая, ее родители очень сильно ее били, но потом, когда она выросла, она стала очень красивая и у нее было много любовников, поэтому она считала, что неплохо прожила свою жизнь, ей было, что вспомнить. Правда, из-за этого битья она теперь вся больная, и недавно у нее что-то случилось с ногой, она ее подвернула, упала, и так лежала очень долго, а потом кое-как доползла до телефона и вызвала скорую помощь, врачи приехали, а она никак не могла открыть дверь, поэтому они вынуждены были разбить стекло и проникнуть к ней через окно.
Ее отец был генералом белой армии, служил у Врангеля, а потом, в Париже, работал шофером такси, а мать служила в ресторане. Сюзанна никогда не хотела иметь детей, потому что она бы их тоже била, как ее отец и мать. У нее в ящиках комода хранились аккуратно сложенные вещи, иногда она доставала их своими скорченными ручками, а потом складывала обратно, при этом раздраженно приговаривая: „Ах, черт!“ Она тоже не любила ни собак, ни кошек, и в этом отношении понимала Пьера. Летом Сюзанна непременно уезжала в дом отдыха, там очень хорошо кормили, и она зараннее предвкушала поездку, радуясь, как могла. Правда, она и здесь могла каждый вечер спускаться в ресторан, что был на первом этаже ее дома, и там жрать за десятерых, но эта пища не шла ей впрок. Пьер, рассказывая об этом, горестно покачивал головой и ковырял в носу. Из дома отдыха она писала Пьеру открытки: „Погода холодная, но кислорода до фига! Мне очень хорошо, кормят как на убой! Наилучшие пожелания. Сюзанна.“ Пьер иногда завидовал ей, потому что часто был голоден и жрал, что придется. Маруся видела, как однажды на вокзале Сен-Лазар он нашел на полу конфету, ее кто-то уже пососал и выплюнул, а Пьер поднял ее, демонстративно осмотрел со всех сторон, сказал:
— Ах как это вкусно! — и, чавкая, съел. Он не придавал особого значения материальным удобствам, и был доволен тем, что у него теперь, хотя бы, есть крыша над головой.
Раньше, когда он бродил по Франции, он ходил по лесам, и даже когда наступала ночь, он шел всю ночь, глядя на луну, которая служила ему ориентиром. Он не спал ночью, потому что в лесу на воздухе он никак не мог заснуть, к тому же он боялся, потому что его могли убить и ограбить. Однажды он спал в каком-то сарае рядом с клошаром, и тот захотел трахнуть его в зад, а Пьер злобно его оттолкнул. Потом, вспоминая об этом, он говорил, что если когда-нибудь его и выебут в жопу, то это будет не грязный клошар. А однажды ночью зимой он чуть не замерз, его спасла большая косматая собака, к боку которой он прижался и так провел всю ночь. Правда, собак Пьер все равно не любил, как и остальных животных. Пьер спал днем, когда светило солнца, с тех пор он любил солнце. Часто, валяясь у себя в деревне в Нормандии на дворике, окруженном глухой стеной, он говорил вслух: