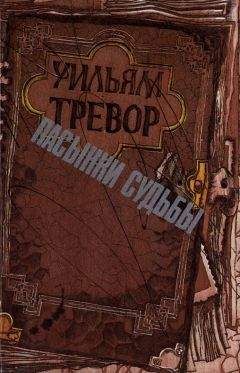— Ну, конечно, нравишься. Напиши ей, Вилли. Не откладывай.
Она говорила с жаром и даже погладила меня по руке. При встрече с Джонни Лейси она улыбалась, щебетала с его женой и детьми, но я чувствовал, что на душе у нее тоскливо, и мне опять вспомнилась сосланная в Чикаго девушка.
— Обещай мне, Вилли.
И я обещал, что напишу сегодня же. Напишу все как есть, скажу, что люблю тебя. Если же окажется, что я тебе не нравлюсь, я не буду на тебя в обиде и постараюсь пережить свое горе.
— Да нравишься ты ей, Вилли. Конечно, нравишься. Я давно подметила.
Потом разговор зашел о матери. Джозефина говорила о ней с такой теплотой, таким участием, что мне стало стыдно за свое раздражение, ведь из трех оставшихся в живых обитателей Килни настоящей жертвой была она одна, и, если виски помогало ей заглушить боль утраты, ее пристрастие к спиртному было вполне объяснимо. Мать делала над собой усилие, которое Джозефина оценила, а я нет: ей ведь было очень нелегко надевать черно-красное выходное платье и с дежурной улыбкой отправляться вместе со мной в город.
Мы вошли в дом, и еще в темноте я решил: все расскажу матери, признаюсь, что набрался наконец смелости написать тебе. И неважно, если она не сможет вспомнить, кто ты; утром, пока она еще не напилась, я повторю то, что говорил накануне. Я поднялся к ней в комнату, но у самой двери вдруг почувствовал — что-то стряслось. Я еще не вошел, а уже знал: мать умерла.
1
В 1983 году в Дорсете, в доме приходского священника, молодой, энергичный пастор занимается своими делами. Он, как и владельцы Вудком-парка, которым приходится строить автостоянки и подбирать мусор с дорожек, времени не замечает. Однако, печатая на гектографе, пастор, как и все Вудкомы, поневоле свыкается с настоящим. Ему и невдомек, что больше пятидесяти лет назад поздним субботним утром в его уютный домик принесли телеграмму, которая почти весь день пролежала на столе в передней, поскольку, кроме служанки, дома до пяти часов вечера никого не было. «Умерла миссис Квинтон». Когда прошло первое потрясение, пришлось посылать еще одну телеграмму из Дорсета в Индию, в Масулипатам: «Бедная Эви скончалась». На свет из сундуков извлекли проветривать траурные туалеты, и в доме приходского священника воцарилась тягостная атмосфера раскаяния и вины.
А в графстве Корк в 1983 году обо всем этом хорошо помнят.
2
Мы обе были в черном, что, разумеется, сразу бросалось в глаза, и нам, словно мы ослабели от горя, все пассажиры на пароходе уступали дорогу, какая. — то женщина перекрестилась, а мужчины при нашем появлении приподымали шляпы или кепки.
— Это чисто ирландское, — пояснила мне мать.
Сойдя на пристань, она обняла тебя, прижимая к глазам носовой платок с траурной каемкой.
— Бедный мой, — шептала она. — Бедный, бедный мальчик.
— Сочувствую тебе, Вилли, — сказала я. — Очень тебе сочувствую.
Ты не ответил.
Машина остановилась у подъезда.
— Вы, наверно, проголодались, — сказал ты. — Есть ветчина и салат.
Ты отвел нас в столовую, где стоял все тот же запомнившийся мне тяжелый запах — не то чтобы спертый, а какой-то нежилой. В маленьком камине горел огонь, наступило тягостное молчание. Меньше всего на свете в этот момент мне хотелось есть и слушать болтовню матери:
— А ведь все из-за пьянства! Ну, разумеется, Вилли, мы делали, что могли. Сколько раз я с ней об этом говорила! Прошлым летом, когда мы у вас были, я каждый день уговаривала ее не пить.
Я спросила у тебя, буду ли я жить в той же комнате, что и в прошлый раз, и ты что-то пробурчал в ответ, глядя в сторону. А потом опять заговорила мать.
Я вышла из столовой и поднялась наверх. Я часто с любовью вспоминала этот дом: витражи на входной двери и на лестничных окнах, комнаты, заставленные как попало сохранившейся от пожара мебелью. Спальня, отведенная мне, была узкой, с темными стенами и керосиновой лампой — здесь абсолютно ничего не изменилось. Я налила воды в разрисованный цветами кувшин и стала не торопясь умываться.
— Похороны, — говорил ты, когда я вернулась в столовую, — назначены на завтра, на половину двенадцатого дня. Мать будет похоронена в Лохе.
Вошла с чайником и чашками Джозефина, поставила посуду на белую скатерть и вышла, тихонько прикрыв за собой дверь.
— Какая жалость, что они не смогли приехать из Индии, — сказала моя мать. — Разумеется, они ужасно рвутся сюда. Ты же понимаешь, Вилли? Твои дед с бабушкой, если бы могли, непременно приехали бы.
Ты ответил, что понимаешь. Мать с аппетитом ела ветчину и салат. Ты нарезал фруктовый торт, медленно погружая нож в цукаты и изюм и так же медленно извлекая его наружу, разлил чай и предложил нам торт. На меня ты не взглянул ни разу.
— Пойду полежу часок, — объявила мать, выпив две чашки чаю. — А вам советую пойти погулять. Вы же любите. Подышите свежим воздухом — это полезно.
Но ты возразил, что, наверно, и я бы хотела отдохнуть с дороги. «Он расстроен, — подумала я, — а потому так резок».
— И все-таки я ругаю себя, — сказала мать. — Ругаю за то, что не настояла на своем. Но что, в сущности, можно было сделать? Казалось бы, родная, горячо любимая сестра — а сделать ничего нельзя.
Она в очередной раз приложила к глазам носовой платок с траурной каймой и удалилась.
— Я не хочу отдыхать, — сказала я.
Не говоря ни слова, мы спустились с горы, так же молча перешли мост и направились в город.
— Она покончила с собой, — сказал ты наконец. — Вскрыла себе вены. Бритвой.
Говоря это, ты даже не остановился. Мы шли мимо увешанных одеждой и заставленных фарфором витрин, мимо магазина Вулворт, мимо аптеки. Ветер гнал мусор по тротуару, над головой кричали чайки. «Будет гроза», — пробормотал ты таким же равнодушным голосом.
— Я этого не знала.
Две женщины с грязными детьми, подойдя вплотную, дергая меня за рукав и обещая помолиться за спасение души, стали клянчить денег. «Пошли прочь!» — закричал ты, грубо оттолкнув их от меня.
— Самоубийц нельзя хоронить по церковному обряду, — сказал ты, когда мы пошли дальше. — Мне пришлось упрашивать священника.
Мы миновали школу, в которую ты ходил. «Директор мисс А. М. Халлиуэлл» — значилось на черной табличке возле закрытой синей двери. И ниже:
Делай добрые дела,
Чтоб совесть чистою была.
В прошлый раз ты мне много рассказывал про мисс Халлиуэлл, говорил, что мы можем встретить ее на улице.
— Мы сами виноваты. Нельзя было тогда оставлять мать одну.
— Мне ужасно жалко тебя, Вилли.
— Если хочешь, давай зайдем в отель «Виктория» выпить по стаканчику. Это единственное место, куда ходила мать.
Эти слова ты произнес с горечью, и я подумала, что нехорошо сейчас идти в ресторан, куда любила ходить она. За то время, что мы не виделись, ты стал совсем другим. Изменились даже твои движения, походка.
— Я бы выпила лимонада, — сказала я, когда мы вошли в отель. У меня разболелась голова. Напрасно я отказалась пойти отдохнуть. С лимонадом в высоком бокале в одной руке и с рюмкой какой-то янтарной жидкости в другой ты пересек пустой холл отеля, сел, и наступила тягостная тишина — казалось, ты молчишь нарочно, мне назло. Я не знала, что говорить, но молчать было еще хуже.
— Знаешь, я скоро уезжаю на несколько месяцев в Швейцарию, — не выдержала наконец я.
— В Швейцарию?
— Да. В Монтре дают уроки английский профессор с женой.
— Понятно.
— Не знаю, как все будет.
— Еще бы.
— Девочка, о которой я тебе рассказывала, наша староста, к сожалению, тоже едет.
Ты не ответил.
— Агнес Бронтенби, — окончательно отчаявшись, пояснила я.
Ты молча сидел с опущенной головой.
— Я знаю, как тебе сейчас плохо, Вилли.
Ты отвернулся. Я почувствовала, как краснею от стыда. «Вот бессердечная тварь, — думаешь, вероятно, ты. — Разоделась во все черное, маленькая мартышка, и болтает про Швейцарию». Какое легкомыслие в такой момент даже упоминать профессора и его жену! Какой же надо быть эгоисткой, чтобы, как ни в чем не бывало, делиться с тобой своими планами, когда твоя мать лежит мертвой, когда тебе пришлось просить священника похоронить ее как подобает! С несчастным видом я поднесла к губам бокал лимонада. Приторный, тошнотворный вкус. «А может, это лимонад отца твоего школьного друга, о котором ты мне рассказывал?» — подумала я и тут же опять устыдилась своего легкомыслия. Одна и та же мысль преследовала меня, не давала покоя: ведь твой дом сожгли англичане, они разрушили твою семью, да и в самоубийстве матери виноваты тоже они.
Зачем же себя насиловать.
— Скажи, чем я могу помочь тебе, Вилли?
— Жизнь была ей в тягость. Она была несчастна — радоваться надо, что она умерла.