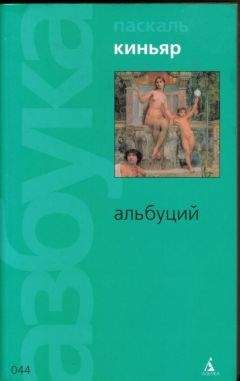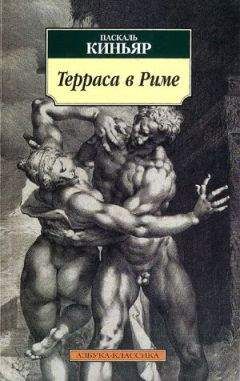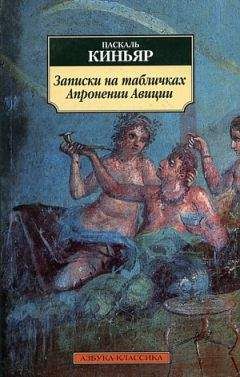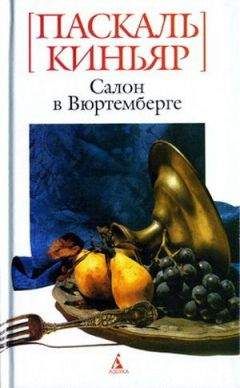— Но этот раб не был преступником.
— Зато он вызывал сострадание своим видом.
— И ты убил его потому, что он вызывал сострадание?
— Я убил его для того, чтобы он вызывал еще большее сострадание.
Альбуций изобразил художника за работой:
— С одной стороны садишься ты в окружении своих кистей и чашек с красками. С другой стороны ты сажаешь его в окружении палача, хлыста, огня и дыбы.
— Мне хотелось увековечить его лицо для потомков. Я стремился придать ему выражение страдания, которое вызывало бы слезы.
— Но у тебя самого, Паррасий, это зрелище не исторгло слез. Твои рабы подтвердили в суде: ты ликовал. Ты писал картину.
— Я не нанес ущерба государству. Я заменил бессильного, полумертвого старика картиной, которая переживет века.
(А вот несколько другая версия: «Я не нанес государству никакого ущерба. Я заплатил за этого раба-олинфийца. Но я не извлек ни малейшей денежной выгоды из созданного мною произведения. Я принес его в дар храму Минервы»).
У Альбуция защитительная речь кончалась так: «Это был мой раб. Я владел им по праву военной добычи. О афиняне, о римляне, если уж приобретения, сделанные по праву победителей на пленных, не имеют силы, значит, ваши империи эфемерны, как ветер, как сны ваших предков. Все должно вернуться в прежние границы, а это не что иное, как тень каждого человека на земле. Всем, что мы имеем, мы обязаны войне».
Латрон развил эту тему следующим образом:
— Parrhasi, morior.
— Sic tene.
«Паррасий, я умираю!» — простонал старик, испуская дух под пытками. В ответ Паррасий крикнул ему: «Вот-вот, так и замри!»
КАЛЛИАС И НЕБЛАГОДАРНОСТЬ КИМОНА
CIMON INGRATUS CALLIAE
Афинский полководец Мильтиад, победитель персов, старился в ореоле славы. Но однажды его обвинили во взяточничестве. Он умер в тюрьме. Его сын Кимон занял место отца в темнице, дабы с подобающим достоинством похоронить отцовский прах. Каллиас, человек самого низкого происхождения, но очень богатый, выкупил у государства Ки-мона, сына великого полководца, покорителя Востока, и возместил всю сумму взяток, вменяемую Мильтиаду. Кроме того, Каллиас отдал Кимону в жены свою дочь.
Однажды Кимон застает жену сидящей на члене другого мужчины. Кимон отсекает член, вонзает нож в грудь жены и наносит второй удар любовнику, который с воплями катается по триклинию, держась обеими руками за уцелевшие яйца. Каллиас подает в суд на зятя: он не отрицает ни факт супружеской измены, ни очевидность преступления, ни законность убийства, но обвиняет Кимона перед судьями в неблагодарности. Кимон возражает:
— Non potest generosus animus contumeliam pati (Человек с благородной душой не может снести такого оскорбления).
— Моя дочь искала на стороне наслаждения, на которое ты скупился.
— Мне жаль моего обвинителя, но не оттого, что он лишился дочери, а оттого, что он произвел ее на свет.
— Я хотел иметь любящего зятя.
— Ты хотел иметь знаменитого зятя.
— Моя дочь, если бы ты ее любил, должна была сидеть на твоем члене.
МЕТЕЛЛ-СЛЕПЕЦ
METELLUS CAECATUS
Это случилось в Риме в 261 году. Муций Цецилий Метелл был понтификом. Загорелся храм Весты. Цецилий Метелл бросился в огонь и вынес наружу палладиум, невзирая на то что священное пламя охватило его тогу. На него вылили целый галльский бочонок воды. Он рухнул наземь нагой и обгоревший, продолжая кричать от боли. Наконец обнаружилось, что пожар лишил его зрения. Несчастного врачуют, осыпают наградами и почестями. Но один человек встает и взывает к закону: «Sacerdos integer sit» («Жрец не должен страдать никаким телесным изъяном»). Гражданин требует лишить М. Цецилия Метелла сана понтифика. Принципалы возражают на это, что доселе ни один понтифик еще не заслужил стольких прав возглавлять храмовое жертвоприношение. Его стараниями была спасена богиня, спасены из пламени священные атрибуты. Но человек этот объявил:
— Если жертва не имеет изъянов, то и убийца ни в чем не должен уступать ей. Жертвоприношения могут утратить свою силу. Когда боги делают своего жреца калекой, это означает, что они гневаются на него.
Создание золотого эталона относится к 15 году. На этот же год приходится апогей первого периода власти Августа. А также победоносные кампании Ти-берия на Дунае. И наконец в 15 году младшая дочь Альбуция умирает бездетной в Милане. Выживает одна только Полия.
В 11 году Август восстанавливает фламинат Юпитера. Альбуция в эту пору нет в Риме, он объезжает с декламациями Цизальпинскую Галлию и Милан, где покрывает себя славой. Приезжает в Новару, проводит там зиму. Возвращается в край своего детства. Он либо угнетен морально, либо болен и, вероятно, по этой причине соглашается принять должность новарского эдила. Цестий пишет, что он будто бы перестал говорить и хранил молчание в течение многих месяцев. Однако это утверждение сомнительно, а главное, противоречит уже известному нам «Odi meos» (Solus, orbus, senex, odi meos — одинокий, бездетный, старый, я ненавижу свою родню). По версии того же Цестия, он закупил большое количество рабов, взрослых и детей, чтобы населить ими свои поместья в Новаре. Потом он едет в Италию. Латинское слово «infari» означало «не говорить». Ребенок — «puer» — с рождения до семилетнего возраста назывался «infans» — не говорящий. Лукреций, который был старше Альбуция, истолковывал существительное «infantia» как неспособность изъясняться и не связывал это слово с детством. Понятие «infandus» включало в себя все, о чем неприлично говорить вслух. Одним и тем же словом обозначали и нечто отвратительное, и, одновременно, ребенка. Цицерон называл младенцев «infantissimes». Чем мы ближе к неспособности говорить, тем скорее возвращаемся к детству. Кормилица или мать рассказывала «fabulae» малому ребенку (puer infans), чтобы научить его говорить (fan), чтобы он мог стать «fans», или «fabulor», или «fabulosus». Такова судьба, участь, «fatum» человека. В Риме между людьми и баснями существовала тесная связь.
В 4 году до н.э. рождается Иисус. И что совершенно неоспоримо, умирает Ирод. Турбийский трофей уже воздвигнут и блестит на солнце. Его видно отовсюду, что с земли, что с моря. Летом я провожу свой отдых в уголке его тени. Здесь живет моя сестра Марианна, — иными словами, здесь живет радость или это я обретаю ее, приезжая в этот уголок. Я никогда не нуждался в доказательствах существования рая. Мне и самому известны сто двадцать—сто тридцать мест, где он находится, и одно из них — именно это, лежащее на склоне холма, под жгучим солнцем, с портиками эпохи Наполеона III и статуями, со стенами, сплошь увитыми сиреневой бугенвиллеей, с шеренгами почти вечных олеандров, похожих на те, что росли в нижнем саду Г. Альбуция Сила; он любил эти деревья. Кстати же, я возвращаюсь к Альбуцию, которого позабыло время, а я нахожу все более и более незабываемым. Куда более незабываемым, например (по крайней мере это мое мнение), нежели Цицерон или Варрон, чьи жизни он описал в своих романах. Итак, в 4 году, пока по приказу императора Августа из огромных белоснежных каменных глыб складывали Альпийский трофей, Альбуций набрасывал на восковых дощечках свои короткие тексты.
В 4 году Альбуций опубликовал «Траурные одежды» («Lugens divitem sequens filius pauperis»). Во 2 году (в тексте значится: «Через шесть недель после кончины Мецената»), когда Иисус, едва научившийся ходить, играет с буксовыми тележками, куропаткой и деревянными угольниками на пороге мастерской в Назарете, Альбуций, возвращаясь из Геркуланума в Рим, падает с развалившихся носилок и катится по булыжникам Аппиевой дороги вблизи Капенских ворот. Вокруг него суетятся люди. Ему обрызгивают лицо водой из амфоры. Переносят на руках и укладывают на ложе в кое-как починенных носилках. Он хватает за руку прачку, поднявшуюся с берега Тибра, и умоляюще шепчет: «Окажите милость, сожгите меня на костре! — и добавляет, не выпуская ее руки: — Пусть оросят молоком лики моих предков!» Женщина подносит к его губам чашку с терпким вином. Его доставляют домой.
Цестий рассказывает, что в последние дни жизни он тратил все свои деньги на покупку вин и книг, но неизменно оставлял несколько-монет для оплаты удовольствия, которое доставляли ему особы, жившие по соседству: они мастурбировали его, а он клал себе на лицо тряпицы, пропитанные их менструальной кровью. Вино он предпочитал ретийское или же простой пикет из Новары. И каждое утро, всю жизнь, он пил молоко от кормилицы.
Старея, он говаривал: «Я испытал все самое горькое и непостижимое, что кроется в женском нраве. Я жалел женщин и отдалился от них. Но запах самых потаенных их местечек пробуждает во мне ностальгию всякий раз, как я вспоминаю об этом. Даже у Спурии они пахли приятно. Нынче же я за десять шагов обхожу эти пухлые, таящие опасность тела. Но зато покупаю испачканные ими тряпицы».