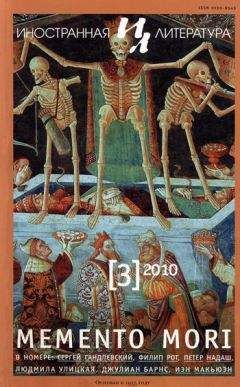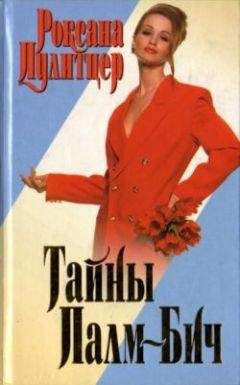— Вот, — сказал я, дал ему мыло, рукавичку и снова сел на крышку унитаза, он же легкими касаниями мыл зад. Затем раздвинул ягодицы руками.
— Так велел доктор, — сказал он.
— Отлично, — сказал я. — Хороший совет. Не торопись.
В 1956-м — отцу тогда было столько же лет, сколько мне сейчас, — «Метрополитен лайф» поставила его управлять конторой со штатом в сорок человек: помощниками менеджеров, рядовыми агентами и двенадцатью секретаршами. Он был из тех менеджеров, которые выжимали все соки как из себя, так и из своих служащих; переведя отца в округ Мейпл-Шейд, его продвинули в третий по счету раз с 1948 года — тогда он занимал должность помощника менеджера в Ньюарке. Продвижение в каждом случае означало, что на него возлагают ответственность за более крупную контору — у него при этом появлялась возможность увеличить свой доход, однако контора, отданная под его начало, была в худшем положении и дел вела меньше, чем предыдущая, которую он вызволил из трудностей и превратил в одну из самых успешных в округе. Так что повышение обычно бывало и своего рода понижением, и ему приходилось постоянно карабкаться наверх.
Я сидел, глядел, как он поливает теплой водой трещины в заднем проходе — без этой процедуры трещины, по его словам, кровоточат, — и думал о том, что «Метрополитен лайф иншуранс компани» так и не сумела оценить по достоинству Германа Рота, а ведь такого работника днем с огнем не найти. По выходе на покой двадцать три года назад ему положили довольно приличную пенсию, за время службы он получил множество почетных грамот, наградных жетонов и т. д. в знак признания его заслуг. Немало менеджеров трудились не менее усердно и успешно, чем он, что да, то да, но из тысяч районных менеджеров, работавших на «Метрополитен», не было ни одного, который, разбуди его посреди ночи сообщением, что в контору вломились, «обосрался бы», заимствуя выражение отца, от страха. За такую преданность компания должна была бы канонизировать Германа Рота, как церковь канонизирует мучеников, пострадавших за веру.
И не была ли и его преданность мне, своему сыну, ничуть не менее примитивной и рабской? Далеко не всегда цивилизованной, да что говорить, к тому времени, когда мне исполнилось шестнадцать, я рвался освободиться от нее — чувствовал, как она меня стесняет, все так, а вот поди ж ты: теперь меня радовало, что я могу как-то отблагодарить его за эту преданность хотя бы тем, что сижу на крышке унитаза и, пока он сучит ногами, точно младенец в колыбельке, — приглядываю за ним.
Можно сказать: когда отец слаб и немощен, для сына не такой уж и подвиг — окружить его заботой и лаской. Могу только ответить, что я точно так же ощущал его ранимость (и как горячо любящего семьянина, которого больно ранили семейные раздоры, и как кормильца семьи, которого ранила неуверенность в завтрашнем дне, и как неотесанного сына еврейских иммигрантов, которого ранила предвзятость общества), когда еще не уехал из дома, а он был здоров, бодр и доставал меня никчемными советами, бессмысленными строгостями и доводами, от которых, оставшись один, я бил себя кулаком по лбу и выл от злости. И вот из-за этого-то разлада противостояние отцовской власти стало для меня гнетущей сшибкой — борьбой отчаянья с презрением. Он был не просто отец, а классический отец — у него имелись все те качества, за которые отцов ненавидят, и все те, за которые их любят.
На следующий день, когда Лил позвонила отцу из Элизабета — справиться о его здоровье, я услышал:
— Филип мне как мать.
Я был ошарашен. Можно было бы предположить, что он скажет: «как отец», но он выразился, не прибегая к банальностям, чего я ожидал, а куда более тонко и в то же время более открыто, без околичностей, с завидной, отнюдь не напускной прямотой. Да, он всегда учил меня на своем примере так, как не научили бы ни американский зауряд-папаша, ни школа, ни спортивная площадка, ни один дамский угодник, — на примере более грубом, ни в малой мере не совпадающем с моими тщеславными — а иными они и быть не могли — мечтами о здравомыслящем, достойном отце вместо этого недоучки, которого я отчасти стыдился, и вместе с тем его ранимость, прежде всего как объекта антисемитского ущемления в правах, укрепляла мою солидарность с ним и утверждала в ненависти к его обидчикам: он учил меня просторечью. Он и сам был, как просторечье, — приземленный, колоритный, не признающий недомолвок, со всей присущей просторечью вопиющей ограниченностью и несокрушимой силой.
К слову сказать, антисемитизм стал предметом краткой переписки, завязавшейся предыдущей осенью между Джоном Кридоном, президентом и главой «Метрополитен лайф», и мной, после того как «Нью-Йорк таймс бук ревью» опубликовал в октябрьском номере мое биографическое эссе. В этом эссе, названном «Под семейным кровом» — оно вошло в мою книгу «Факты», — описывался наш ньюаркский район, ставший пристанищем для еврейских ребятишек, росших там в тридцатые-сороковые годы, когда я как американец чувствовал, какая угроза нашей жизни исходит от немцев и японцев, и, хоть и был совсем мал, как еврей «не мог не ощущать, в каком страхе держат нас высшие и низшие слои американских христиан».
В этом эссе я упомянул об ущемлении прав, проводимом в те годы корпорацией «Метрополитен лайф», — вот что заставило Джона Кридона мне написать. Напомнив, что несколько лет тому назад он виделся с моим отцом, Кридон далее сообщал, что тогда мой отец ничего не говорил о каком-либо ущемлении прав; и он совершенно уверен, продолжал Кридон, что никакого ущемления прав в «Метрополитен» не было. По словам Кридона, написать мне его в первую очередь вынудило письмо старого коллеги, врача на пенсии, сотрудника компании в 1940-е годы, где тот полемизировал с моей публикацией в «Таймс». К письму Кридон приложил переписку, в которую я, неведомо для себя, побудил их вступить.
В письме Кридону врач на протяжении трех абзацев доказывал, что, вопреки моим утверждениям, «Метрополитен» никак не ущемлял права евреев. Его «потрясло», писал он Кридону, как мог Филип Рот в такое поверить, и, доказывая обратное, приводил примеры: «один из наиболее известных служащих высокого ранга, которого знают во всем мире благодаря его выступлениям по вопросам общественного здоровья и статистики от имени „Метрополитен“, Луи А. Даблин — еврей», высокий пост занимал и другой еврей, Ли Франкел, — он был «практически правой рукой Хейли Фиска», президента компании. «Скорее всего, — продолжал врач, — мистер Рот станет в свое оправдание утверждать, что пишет о детских впечатлених, а они, по всей вероятности, отражают разговоры и суждения его домашних. Мне хотелось бы найти способ внести поправки в эти впечатления».
В ответном письме врачу Кридон упомянул, что несколько лет назад встретил на одном ужине в Чикаго моего брата, и тот рассказал ему, какой путь прошел отец в «Метрополитен» — начал рядовым агентом, а кончил менеджером большого отделения, — после чего Кридон пригласил отца отобедать в главном управлении. Кридон отозвался об отце как о яркой личности и добавил, что, если в своем биографическом эссе я точно передал мнение моего отца относительно якобы имевшей место в «Метрополитен» религиозной предвзятости, с тех пор отец его наверняка переменил.
Если врача поразило, что я могу поверить, будто бы крупнейшая американская страховая компания ущемляла в прошлом права евреев, меня, в свою очередь, весьма удивило, что два видных служащих компании, тон чьих писем был во всех других отношениях доброжелательным, полагают, будто этот неопровержимый факт следует отрицать и в конце 1980-х, даже перед собой. Однако, если бы эти письма раздосадовали меня лишь крайне неправдоподобной неосведомленностью, я, скорее всего, ограничился бы благодушным письмишком: сообщил бы, что у меня есть основания придерживаться другого мнения, и на том поставил точку. А что задело меня и подстегнуло ответить им, так это их желание свалить вину за нелестное представление об их компании на отца, на его якобы ни на чем не основанные «суждения» и «мнения», а не на политику компании в прошлом.
Получив их письма, я позвонил отцу.
— Послушай, — сказал я, — а ты, оказывается, оговаривал «Метрополитен». Они любили евреев всем сердцем. Не знали, как побыстрее продвинуть их. Ну а все прочее — еврейская паранойя.
И прочел ему письмо, которое врач написал Кридону в ответ на мое эссе.
Когда я кончил читать, отец рассмеялся — довольно сардонически.
— Ну что скажешь? — спросил я.
— Наивняк он, этот твой врач. Назови-ка еще раз его фамилию.
Я назвал.
— Даблин, он — еврей, что да, то да, — сказал отец. — И начальником у меня тоже был еврей, Петерфрейнд. Но чтобы еврею было так же легко продвинуться в «Метрополитен», как и христианину? В те годы? Да ни в жизнь. В главном управлении евреев можно было пересчитать по пальцам одной руки.