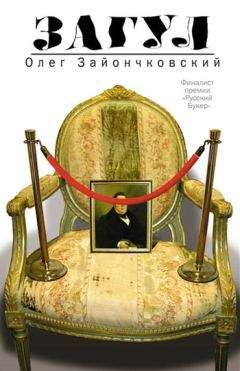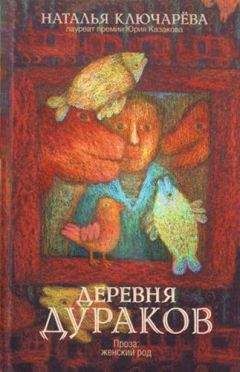Все утро Уткины развешивали работы под наблюдением билетерши Фаины Ивановны. Сложив руки на животе и оттопырив нижнюю губу, тетя Фая с видом понимающего человека давала оценки и советы. Почтенная женщина стояла за порядок и хотела, чтобы пейзажи висели отдельно, «люди» — отдельно, «не пойми что» — отдельно. Против обнаженной натуры она категорически возражала:
— А Галку голую ты убери, убери... нечего. Не срами жену. Да и дети к нам ходят.
Галя, краснея, откладывала себя в сторону. Пойдя на такой компромисс с «цензурой», в остальном Уткин повиновался уже только своему художественному чутью. К полудню все было готово, и Гага ушла домой к хозяйству. Для прокорма семьи она выращивала на продажу цветы, и к тому же в тот день они ждали гостей по случаю вернисажа. С неопределенным чувством тщеславия, смешанного со страхом, художник окинул взглядом свою выставку и отправился в кабинет к Суслову пить пиво.
Пузатенький Генка подмахнул какую-то ведомость и расчистил стол,
— Завидую я тебе, — сказал он.
— Почему?
— Ну... ты человек творческий. А тут сиди, блин, администрируй. Народ у нас дикий: что ни двухсерийный — толчки так усерут! А за нашу зарплату убираться некому — хоть иди и сам чисти.
— Да ладно тебе...
— Я без шуток. Ты-то, поди, живешь со своей Галей в этих... эмпиреях. Птички тебе поют.
— Поют, — усмехнулся Уткин. — Про финансы.
— Что, плохо картины продаются?
— Да так.. Отвожу в Москву понемножку.
— Ничего, лишь бы на пиво хватало... Кстати, может, покрепче накатим — за успех?
— Нет, Ген, давай до вечера подождем.
— Ну смотри.
Они еще поболтали, и Суслов уехал за «Зловещими мертвецами». Уткин перебрался в буфет. Буфетчица Нинка, протирая тряпкой прилавок, сперва только бросала взгляды, но потом не смолчала:
— Ты что это, Уткин, вроде не пьяница, а с утра пиво дуешь?
— Да так... — не нашелся он.
— Твои, что ли, картинки там в фойе повесили?
— Мои.
— Надо поглядеть.
— Погляди
— Некогда. Сейчас народ подвалит.
Но народу на дневной сеанс «подвалило» немного: в основном дети в сопровождении бабушек. Дети врывались с воплями и сразу начинали носиться по фойе, не обращая внимания на картины. Лишь одна девочка остановилась перед какой-то акварелью и долго бессмысленно таращилась, медленно выдувая изо рта белый пузырь жвачки. Вдруг пузырь лопнул, обрызгав ей нос, и девочка убежала, смешавшись с остальными. Бабушки беседовали с Фаиной Ивановной. Между прочим она обращала их внимание на выставку, но бабки издалека окидывали картины равнодушными взглядами и возвращались к разговору о насущном, не забывая пасти своих сопливых потомков.
Уткин ушел домой обедать.
— Ну как? — спросила Галя.
— Да так... — он пожал плечами. — Никак пока. Схожу еще на вечерний сеанс.
После обеда, не будучи в настроении работать, он прилег поспать. Спал Уткин некрепко: его беспокоила залетевшая в комнату неотвязная муха. Гадина кружилась над ним, щекотала в разных местах и, невидимая, росла, заполняя собой все пространство сна. Муха не подпускала к нему привычные приятные образы и фантазии, и они, званые гости послеполуденной дремы, так и топтались сиротливо на пороге сознания. В результате проснулся Уткин в каком-то смутном состоянии духа. При мысли о вернисаже сердце екнуло, но не радостно, а тревожно. Он вспомнил жвачную девочку в кинотеатре, и досада поднялась в нем изжогой. «Зряшная затея! Им "Зловещих мертвецов" смотреть, а не живопись. А все Суслов — его идея... Тоже еще, покровитель искусств!»
Он вышел на кухню. Галя, взглянув быстро и пытливо, сразу почувствовала его настроение:
— Не выспался?
— Мык... — мотнул он головой.
— Выпей кофе, тебе идти скоро.
— Я тее пойду.
— Ну здрасте! — она укоризненно посмотрела большими глазами. — Для чего же мы огород городили?
— Не знаю... — ответил он.
Галя молча задвигалась по кухне, унимая недовольство. Трудно жить с художником! Но постепенно лицо ее прояснилось.
— Хорошо, — сказала она, — не хочешь — не ходи. Тогда будешь мне помогать: гости-то все равно придут.
Прихлебывая кофе, Уткин стал вспоминать, кого они приглашали на вернисаж: Бок, Сергеев, отец Михаил... Кочуев сам разнюхает...
— Интересно, батюшка придет? — пробормотал он вслух.
— Обещал, — откликнулась Галя.
— Ладно, — проворчал Уткин. — Хоть есть повод увидеться.
Друзья заявились гурьбой и довольно поздно, когда уже смеркалось. Ясно было, что они успели посмотреть и «Мертвецов». Суслов с порога стал громко пенять:
— Зараза, Уткин, что же ты на свое открытие не пришел ? Я хотел народу речь про тебя сказать...
Уткин насупился:
— Да так..
— Что «да так»? Посмотри, какие люди пришли на твое художество посмотреть — вон Подметкин... Знаешь его?
— А как же, — Уткин поздоровался за руку с собратом по искусству.
Приятели в очередь целовали Галю, даря ей — всяк в меру своей изобретательности — комплименты.
Ужин на столе уже заждался. Разлив водку и зацепив вилками первые закуски, гости вопросительно переглянулись:
— Давай, Сергеев, как близкий друг.
Сергеев встал и откашлялся. Наступила тишина.
— Дорогой э-э... Прямо хочется назвать тебя именинником... Позволь тебя поздравить. В общем, выпьем, братцы, за Уткина, настоящего художника! Стоп, стоп, я еще не кончил... Все мы тут мало смыслим в живописи, но лично мне твои работы безусловно греют душу... Суслов, ты потом скажешь... Давай, Уткин, за тебя, единственного среди нас художника!
— А Подметкин? — напомнил кто-то.
— Что Подметкин?
— Он тоже художник.
— Ах да... Прости, Подметкин. Правда, я твоих выставок не видел...
Подметкин не ответил, но почему-то выпил свою рюмку, не дождавшись общего чоканья.
Было еще несколько задушевных тостов, а потом разговор съехал на другие темы. Потом достали гитару и начались песнопения. И только Подметкин меланхолически молчал, крутя в руках то стакан, то вилку.
— Пойдем, покурим, — предложил ему Уткин.
Они вышли на крыльцо. Волглая прохлада приятно освежала после застольного угара. Ночь вспрыснула землю росой, будто собираясь прогладить ее сухие морщины. Городские окошки перемигивались со звездами. Было тихо, лишь кузнечики неутомимо чесались, забираясь, казалось, в самое ухо.
Художники уселись на отсыревшую ступеньку. Уткину хотелось поговорить о своем творчестве, но Подметкин только курил и глядел в темноту. Разговор не завязывался, и Уткин решил зайти с другой стороны.
— Ну, а как у тебя? — спросил он.
— Что? — Подметкин вздрогнул. — А... Да все «матрики» крашу.
— Матрешки?
— Их самых.
Уткин хмыкнул:
— Ну и как?
— Нормально. Идут «матрики» — иностранцы берут. Вот Муху на «десятку» перепер.
Уткин не понял:
— Какую Муху? Цокотуху, что ли?
— Не какую, а какого... Художник такой австрийский. Известный, между прочим, стыдно не знать. Альфред или Альфонс... сейчас не помню.
— Ну и что он, этот Муха?
— Модерн. Сегодня в почете.
— Модерн...
— Что, и модерн не знаешь?
— Модерн я знаю.
— Темный ты, Уткин, — Подметкин вздохнул.
Уткин не обиделся:
— Ну и что?
— А то... Темный, потому и смелый. Выставки устраиваешь... Что ты можешь нового сказать?
Он замолчал, и повисла пауза. Уткин думал. Наконец он нарушил молчание:
— Выходит, если бы я не был темным, то не устраивал бы выставки?
— Ты меня понял, — усмехнулся Подметкин.
— А может, и вообще рисовать бы расхотел?
— Скорее всего.
— Но тогда скажи, зачем оно нужно, твое просвещение?
— А кому нужно твое рисованье? — желчно возразил Подметкин. — Просвещение нужно хотя бы, чтобы не выглядеть дураком.
Неожиданно тьма перед ними еще сгустилась, и посреди черного пятка блеснуло серебро. То был наперсный крест отца Михаила.
— Здорово, дети мои! — весело приветствовал их священник.
— Здорово, батюшка, — хмуро ответил Уткин. — А еще позже ты не мог припереться?
— Ты уж прости, — Михаил поздоровался с ними за руки. — Служба, знаешь... Видишь, я в облачении.
Появление отца Михаила вызвало в доме оживление и новое налитие рюмок Он, не садясь, перекрестил свою "штрафную" и хотел было сразу направить ее по назначению. Но хмельной Суслов остановил его довольно развязно:
— Э, нет, батюшка, ты не в пивную пришел! Ты сначала скажи по поводу: что ты думаешь про нашего Уткина и так далее.
— Да, пожалуй... — отец Михаил посмотрел на Уткина, подвигал бородой и задумался.
— Давай, Миша, не тяни, — торопили его.
— Что же сказать?.. — он еще думал. — Вот что я скажу: всяк по-своему Господа славит.
Он лихо выпил и, не закусывая, повернулся к Уткину:
— Дай-ка я тебя просто обниму.