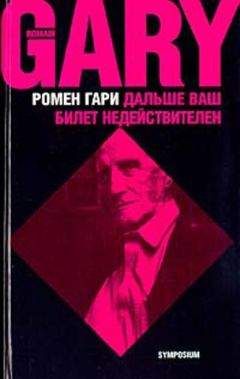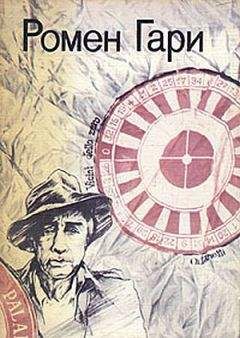— А чем нам жить до тех пор?
— Терпением.
Он пожал плечами. Я раскрыл рот и сам был удивлен еле сдерживаемой яростью своего голоса:
— Кляйндинст будет отдрючен, и хорошо отдрючен. Можешь мне поверить.
Жан-Пьер закрыл папку.
— Ладно. Завтра отправляюсь во Франкфурт.
Я наклонился и положил руку ему на плечо:
— Уж ты-то должен бы знать, что я никогда не брошу вас с матерью в передряге.
Жан-Пьер опустил глаза. У него был немного смущенный вид, как раньше, когда мы с Франсуазой обменивались слишком резкими словами. И к тому же я узнал себя в его улыбке.
— Оба уха и хвост, — сказал он.
— Что?
— Тебе всегда надо уйти с арены победителем…
Он поднял на меня взгляд, и, быть может, на этот раз в нем была симпатия и даже нежность. Впрочем, он был слишком умен, чтобы выказывать мне нетерпимость и упрямство в компании, где процентная ставка по ссуде составляла четырнадцать процентов, при ростовщической в двадцать четыре.
— Не понимаю.
— Да нет, все ты понимаешь. Вечное стремление показать свою силу… Могу я поговорить с тобой… по-братски?
Я подошел к комоду, взял бутылку виски и два стакана, вернулся и присел на край стола:
— Валяй. На меня уже навалилось столько информации о себе самом, что чуть больше, чуть меньше… В любом случае сегодня не знать самого себя уже невозможно. Избыток самонаблюдения. Между Фрейдом и Марксом проводишь время, знакомясь с собственным «я»… Но если думаешь, что можешь открыть мне глаза…
— Может, нам лучше оставить этот разговор… — сказал Жан-Пьер.
— Ты собираешься объяснить мне, что если я так стремлюсь обеспечить будущее тебе и твоей матери, то это не потому, что нежно забочусь о тех, кого люблю, но из желания показать свою силу… Точно?
— В общем, да. Но я вовсе не исключаю любви. Ты чувствуешь себя сильным, когда оказываешь помощь и покровительство…
— … Из феодализма, в некотором роде. Все, что мне близко, должно быть защищено… Королевство моего Я. Я защищаю замок и угодья. Вы — часть моей территории. Если я должен умереть, зная, что оставлю вас без гроша, у меня будет чувство, что я умираю побежденным. И мое достоинство самца запрещает мне покидать арену иначе, нежели триумфатором. Оба уха и хвост, как ты говоришь. Fiesta brava. Вот уже пятьдесят лет Запад одержим мужской силой, а одержимость — неоспоримый признак утраты… Ты всегда очень хорошо рассуждаешь, Жан-Пьер.
— Замечу, что это говоришь ты.
Я поднял на него глаза, но он отказал мне в помощи. Я отставил свой стакан и подошел к окну. Было еще светло.
— Ладно, так, и конец, — сказал я. — Объяснишь Жерару.
— Постараюсь.
Я вышел. Остановился на Елисейских полях и купил пластинок на всю ночь.
Я постучал в дверь и вошел. Никого.
— Лора?
Она сидела в синем кресле, в спальне, с лицом, залитым слезами. В глазах было такое выражение отчаяния, катастрофы и почти страха, что я застыл, не осмеливаясь пошевелиться, так все было хрупко.
— Родная, родная… Что случилось?
Она покачала головой и ответила слабым голосом, силясь улыбнуться:
— … Так уже не первый день, Жак.
Постель не убрана. Она в пеньюаре. Шторы задернуты.
— Ты не выходила?
— Когда тебя здесь нет, Париж чужой город.
Открытые чемоданы. Она бросила туда несколько вещей. Я положил свои пластинки и сел. Остался в плаще и шляпе — мне требовалось вокруг себя чье-то дружеское присутствие. У меня всегда были очень хорошие отношения с моей одеждой — защитная оболочка… Мне бы шкуру покрепче.
Шкафы и ящики были открыты.
— Я даже заказала место в самолете…
Некоторое время я сидел внутри своего гардероба, потом встал, снял телефонную трубку и вызвал консьержа.
— Жан, отмените это место в самолете на Рио…
— Понял, месье. А как быть со следующим рейсом?
— То есть?
— Видите ли, мадемуазель Суза заказала одно место для себя и одно для вас, на следующий самолет.
Я повесил трубку, обернулся к Лоре, и все эти слова, не умеющие говорить, должно быть, теснились в моем взгляде. Уже давно я не был счастливее, чем в этом молчании. Когда я опустился на колени рядом с тобой, а ты прижалась лбом к моему плечу, когда я ощутил твои руки вокруг моей шеи, слова любви, которые я шептал, вновь обрели свое детство, словно только что родились и с ними еще ничего не произошло. В комнате было достаточно темно, чтобы остался лишь вкус ее губ… «Когда ты чуть шевелишься и твоя голова опирается о мое плечо вместо скрипки, каждое движение твоего тела наполняет мои ладони пустотой, и чем крепче мои руки удерживают тебя, тем больше ищут..»
— Я хотела уехать сразу, чтобы было не так больно, но поскольку ты тут же бросился бы за мной вдогонку, заказала место и для тебя, в следующем самолете…
… Была бы у меня дочь, я бы, может, и выпутался.
Я вернулся к себе поздно ночью. Руис отказался прийти. Я надел халат и уселся в кресле. О том, чтобы спать, и речи быть не могло.
Что мне сегодня труднее всего объяснить, так это то, что я считал себя хозяином положения. Ни в один миг этой бессонной ночи у меня не возникло ощущения потери воли, того состояния, будто меня куда-то несет, которое в стольких признаниях выражается классическими формулами: «неодолимая сила влекла меня…», «толкала меня…». Никогда я не чувствовал большей уверенности в себе. Я хотел лишь соприкоснуться с опасностью, вот и все.
В девять часов утра я переоделся и приготовился. Нашел свой кольт под стопкой бумаг в письменном столе. Я почтительно хранил этот сувенир в течение тридцати лет.
Соседнее с домом семьдесят два по улице Карн здание было снесено, а другим своим боком он лепился к меблирашкам: «Приют иностранцев». Я и забыл, что есть еще в Париже уголки, столь населенные чужаками. У игравших на улицах детей были лица Касбы, лица будущих метельщиков улиц. Из окон лилась арабская музыка и словно оплакивала собственную судьбу. Не знаю почему, но я чувствовал себя очень свободно среди этих лиц, столь непохожих на мое. Здесь я был не у себя дома, а у них: тут было не так важно. Тут взгляды не оценивали меня так, как на улице Фэзандери. Ощущение новизны немного смягчало ощущение моей собственной чужеродности.
Я сам не знал, зачем отправился сюда на поиски Руиса. Я написал, что хотел прикоснуться к опасности, приблизиться к реальности, но был не способен сказать, ради чего: чтобы избавиться от наваждения, раз и навсегда положить конец выстрелом из револьвера моим опасным, все более требовательным фантазиям или же, наоборот, напитаться ими у самого истока.
Входной коридор заканчивался возле мусорных бачков. У стены валялась пустая клетка для канарейки. В глубине, слева, — застекленная дверь с занавеской из серого мольтона.
Я постучал.
— В чем дело?
Голос женский.
— Я к Антонио Руису.
— К кому?
Не знаю, почему я цеплялся за это имя: Руис.
— Нет тут таких.
— Он потерял свои документы. Я пришел вернуть их ему.
Дверь приоткрылась. Злобное женское лицо. Пятьдесят лет злобы. Я протянул ей водительские права. Она взглянула на фото.
— Это Монтойя, а не… Как вы там сказали?
Я сунул права в свой карман. Сказал:
— У них в Испании много имен.
— Монтойя, это на пятом.
— Какая дверь?
— Рядом с отхожим.
Я пошел наверх. На каждом этаже было по три двери. На пятом одна-единственная, в глубине коридора.
Я спустился на несколько ступенек и стал ждать, прислонившись спиной к стене. Закурил сигарету. Позволил времени течь. Я хотел полнее насладиться этим коротким ожиданием, предвосхищением, игрой, слегка участившимся ритмом моего сердца. Это был наилучший момент. Это всегда наилучший момент — до того.
Я раздавил каблуком сигарету и уже вошел было в коридор, когда услышал скрип открывшейся двери. Чьи-то приближавшиеся шаги… Я приготовился взбежать по оставшимся ступенькам, чтобы внезапно появиться перед Руисом. Моя рука сжимала в кармане рукоятку кольта.
Но шаги остановились, и я услышал, как открылась и закрылась другая дверь. Я выглянул: та, что в глубине, осталась открытой. Руис был в уборной.
Я тихонько миновал коридор и вошел.
Я оказался в мансарде. Окно в глубине. Слева — белая пластиковая занавеска и душ. Разобранная постель с грязным бельем в углу. Штуки четыре-пять радиоприемников, вероятно вырванных из автомашин. Кожаная куртка и костюм горчичного цвета на вешалках, прицепленных к гвоздям. На стене — приколотые кнопками голые девицы и афиша Эль Кордобеса. У изножия кровати, под скосом потолка, зеленое виниловое кресло.
В него я и сел.
Между дверью и тем местом, где я сидел, было, наверное, метра четыре, но я застыл в такой неподвижности, что, когда Руис вошел, он не сразу заметил мое присутствие. Закрыл за собой дверь. Он был в черных кожаных штанах, голый по пояс. Только затворив дверь, он заметил меня. И тогда проявил такую яростную стремительность, что моя собственная диверсантская ловкость показалась неуклюжестью. В одно мгновение, ничуть не удивившись, он прыгнул вперед, и тут же у него в руке появился нож. Мой глаз едва успел заметить, как он выхватил его из кармана.