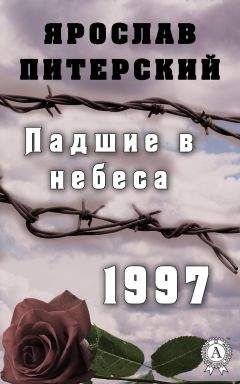Клюфт, хотел встать и подойти к двери, что бы вновь прислушаться, но не решился. Получить еще порцию ударов деревянной дубинкой — не хотелось «Как быстро они выбивают покорность. Как быстро ломается человек? Что, в сущности, ему надо? Вовремя сходить в туалет, попить и вовремя лечь на мягкую постель? В этом и есть человеческое счастье? Нет, Нет, это счастье — животного. Это счастье — амебы, счастье собаки, счастье обезьяны, но только не разумного человека! Нет! Нельзя мечтать — об этом потому, что у тебя только есть инстинкты. Нет! Так не должно быть! Я сижу тут только несколько часов и уже готов на все — только бы меня не трогали! Сводили в туалет и дали поспать на нормальной кровати. Нет! Это не я! Или это и есть я?! Или я просто не знал себя?! Что я, такой вот, мерзкий опустившийся тип — готовый валяться в своей моче и трясущийся оттого, что меня бьют?! Нет, может я, и был всегда таким? Может все люди, которых я знаю — вовсе не такие уж и хорошие и благородные! Может их стоит — вот так, как меня, отходить дубинкой по ребрам и бросить на каменный пол в собственную мочу и тогда они покажут свое истинное лицо? Нет! Это страшно! Господи! Господи, неужели все так страшно? Нет! Я опять обращаюсь к Богу? Но его ведь нет?! Я ведь не верю в его существование? А, что если он есть? А, что если он мне мстит за то, что я в него не верил? Нет! Он не может мстить! Бог, он ведь, как говорит этот странный человек Иоиль, Бог — добрый и сильный!
Он не может мстить какому-то маленькому человеку, за то, что он в него не верит! Это мелко! Стоп! Но, а если в Бога не верят тысячи?! Десятки тысяч?! Сотни тысяч?! Если в него не верят миллионы?! Целая страна не верит в Бога?! Что тогда?! Может быть, за это, Бог и мстит? Может быть, за это он и гневается? За неверие? Стоп! Нет! бред! Я схожу с ума! Нет никакого Бога! Иначе он бы не позволил — вот так, издеваться над невинным человеком! Нет! Не позволил бы!» — Павел вновь с ужасом понял, что путается в своих мыслях. Его сознание словно — разделилось надвое. Два Павла внутри его самого спорили между собой. Один — был ярый атеист — агрессивный атеист, не признающий не каких потусторонних сил. Не признающий вообще существование Бога и верующий только в свои силы! И второй Павел — более мягкий и гибкий. Павел — философ, готовый признать, что, он, верит в Бога, но стесняющийся этой веры. Как будто — вера, могла повредить его имиджу. Его внешнему виду или его карьере. Хотя, этот самый, Павел-философ, так, страдал за веру и надеялся, что Бог — простит его и сжалится, и пошлет ему — спокойствия, любви и счастья! Клюфт застонал и стукнулся головой в стену:
— Что со мной? Что со мной? — спросил он, бросив слова в пустоту маленького холодного бокса. Но ему никто не ответил. Никто. Да никто и не мог ответить?! Клюфт осознал, что он — один в этом страшном и злом мире. Его не спасает — даже любовь Верочки! Не спасет его будущий ребенок! Сын! Или дочь! Его вообще — ничего и никто не спасает! Павлу вновь стало страшно. Брякнул ключ в затворе, и дверь со скрипом растворилась. На пороге появился надзиратель. Но это был, не тот, черный громила — избивший Павла дубинкой. В проеме стоял старый человек. Седой старик, в форме сотрудника НКВД, с пустыми красными, словно, капли крови — петлицами. Его пристальный, пронизывающий взгляд пронизывал Павла. Возможно, вот, так же, этот человек, рассматривал не одну тысячу заключенных. Сколько их прошло через стены тюрьмы за годы его работы? Сколько еще пройдет? Возможно, это старик служил еще при царе Николае. Новой власти, тоже потребовался его навык — открывать и закрывать клетки и засовы. Водить людей по длинному коридору. Смотреть в глазок и выдавать пайку. Тюремщик вечная профессия! Он, будет нужен всегда! При любых обстоятельствах. Человечество, люди, общество! Народ, назови, как хочешь — всегда будут с удовольствием — гноить преступников в тюрьмах! Что бы они мучались. Что бы они понимали — их жизнь не принадлежит им! Их жизнь, тут на земле — это фикция, которую можно развеять, например петлей! Выстрелом в затылок или, как, в далекой Америке — электричеством! А уж там, после смерти, если и есть Бог — пусть он решает, как поступить с преступником! Но пока, он, должен мучаться! Мучаться! Сидя в тюрьме! Надзиратель стоял и молчал. Все выглядело, как-то нелепо. Узник и старый тюремщик напротив! Клюфту казалось, что прошла целая вечность. Наконец старик прервал — эту молчаливую паузу:
— Ну, что, ты тут, очухался? Анисимов мне сказал — ты буйный? Что-то я не вижу, что ты буйный. Сидишь вроде тихо. Или это ты — после дубинки Анисимова, так, шелковый стал? — пробурчал надзиратель. Павел хотел нагрубить в ответ. Но не решился. Вдруг этот самый громила — Анисимов, стоит там, за спиной старика и ждет. Ждет только повода — напасть на Павла и избить его дубинкой. Старик-надзиратель, словно угадав, мысли Клюфта, миролюбиво добавил:
— Ладно, ладно, не бойся. Не бойся. Анисимов сменился. А я, не бью арестантов. Не в моих это правилах. Но учти — если будешь дергаться я буц — команду вызову. Они похлещи Анисимова. Так отметелят — мало не покажется! Так, что сиди тихо, а что я говорю — делай без задумки и обдумки. Тут тебе думать не полагается, как говорится. На воле думать будешь. На воле, сынок. Если конечно, ты на ней еще окажешься. А сейчас вставай. Пойдем на оправку. Хватит тебе тут сидеть. Клюфт медленно поднялся. Все тело ныло. Ноги не хотели слушаться. Каждое движение давалась с трудом. Павел медленно подошел к двери. Старик тяжело вздохнул и покачал головой:
— Эх! Что за время? Как Анисимов, вот так поработал? Взял — избил. Небось, в туалет просился? Надзиратель пристально смотрел на Клюфта. Павел, медленно вышел в коридор и заведя руки за спину, уперся в стену лицом.
— Просился, вижу. Просился. Мой тебе совет сынок. Ты далее ничего не проси. Ничего. Пойми главный тюремный закон. Пойми. Этот урок я повторяю один раз. А урок таков. В тюрьме есть закон. От него отступишь — все. Можешь пропасть. Пропал так сказать. А закон такой — не верь, не бойся, не проси! Вот тебе три самых главных условия. Вот они твои правила. Не отступай от них сынок. Тогда, может, выживешь. Тюремщик, закрыл за Павлом бокс и толкнув его, легонько в спину, буркнул:
— Пошел. Вперед. Глаза в пол. Руки, что б я видел.
Клюфт покорно шагал по коридору. Он рассматривал, то свои ботинки, то цветной, желтый кафель на полу. «Возможно, этот кафель, клали еще при царе. Рисунок был больно замысловатый. Да и цвет. Такой цвет новая власть не решилась бы класть под ноги, каким то там, арестантам. Врагам народа. Нет, кафель был определенно старорежимный!» — мелкнула нелепая мысль.
Старик надзиратель шоркал ботинками, в двух шагах, сзади, Связка ключей в руке позвякивала. Этот звон, напоминал — звон бубенцов на лошадиной тройке. Павел вспомнил, как, когда-то, давно, в детстве, он видел в деревне — красивую упряжку с лошадьми. Тройка неслась по заснеженной дороге и звенела,… звенела… бубенцами! Пьяный мужик, стоя во весь рост, в санях — задорно орал: «Поберегись залетные!» Тогда, этот крик, был такой радостный. Звон бубенцов запомнился Павлу надолго. И вот опять. Что-то похожее — но это звенят ключи у тюремщика.
Старик тяжело сопел. Чувствовалось, что он устал. Они поднялись по лестнице на второй этаж. Кованые перила и сетка между пролетов. Павел со страхом посмотрел вниз. Конвоир подтолкнул его и грубо буркнул:
— Иди, иди и не думай! Если решил свести счеты с жизнью — не в мою смену. Мне дохляков не надо. Тем более ты еще и следователя то не видел. А раз не видел, значит, и не знаешь — что тебя ждет. А вздернуться всегда успеешь. На тот свет все успевают — никто не опаздывал. А если и опаздывали, так были довольны. Иди и не думай. И Павел брел,… а, что ему оставалось? В конце длинного коридора, они подошли, к одной из десятков одинаковых дверей. Старик скомандовал:
— Лицом к стене. Стоять! Конвоир повернул ключ в замке. Он со скрежетом щелкнул. Камера, в которую Павла затолкнул надзиратель, оказалась небольшим складом. В углу возвышался желтый унитаз. Ржавая вода и моча тысяч арестантов заставили поменять, белый цвет — на рыжий.
— Пока, можешь оправиться.
Старик открыл большую створку. Павел оглянулся. Этот тюремщик вел себя слишком фривольно. Не боялся поворачиваться спиной к арестанту. Может, провоцировал, а может, и знал — никто на него не кинется. А если и кинется — куда бежать? До первого поста? До первой перекрытой решетки? Да и зачем бежать? На воле — что ждет? Клюфт тяжело вздохнул. Он подошел к унитазу и посмотрев еще раз на тюремщика расстегнул ширинку. Старик, подождал, пока Павел оправится. Он не спешил. Клюфт подошел к конвоиру с опущенной головой. Надзиратель участливым голосом сказал:
— Вот, бери, тут, матрас и подушку. И за мной. Павел, схватил серый матрас. Подушка оказалась — маленькой и скомканной. Она больше напоминала половую тряпку или мешок для лука. Павел понял — больше всего на свете, он, мечтает — прислониться, к этой грязной, бесформенной тряпке, головой и заснуть на пару часов! Просто лечь и заснуть! Они вновь вышли в коридор. Та же процедура. Старик, вел его, не спеша. Шаги эхом отдавались в мрачных стенах. Где-то вдалеке все также звучали и звучали голоса. Кто-то надрывно кричал. На встречу несколько раз попались такие же, бедолаги — арестанты, как Павел. Они тоже шли, низко опустив голову. За ними конвой. Павел видел узников тюрьмы лишь по ногам. Два раза попались обычные ботинки и один раз сапоги, причем хромовые. Явно пропели мимо, какого-то офицера. Сапоги были начищены до блеска и сверкали. Клюфт это успел рассмотреть за пару секунд. Тюремщик провел его в самый конец длинного коридора. По лестнице они вновь поднялись на третий этаж. И вновь — коридор, и бесконечные остановки возле решеток. Старик на ходу перекидывался репликами с коллегами-часовыми. Они, шутили друг над другом. И шутки были какие-то тупые и пошлые. Да о чем могут шутить тюремщики? Наконец надзиратель остановил его возле камеры. Старик припал к дырке глазка — секунд пять, он, наблюдал, что творится внутри каземата. Затем поднял голову и тихо сказал Павлу: