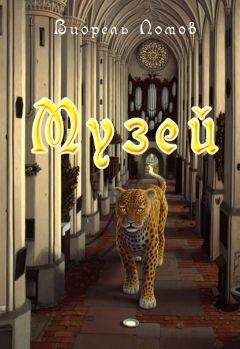И тут… но — по порядку.
— Що ты не женишься? — спросил Борис, сверкая стальными зубами. — Ты ж Машке Узбековой обещал, в первом квартале.
— Во втором! — быстро отозвался Хрустов. — Во втором квартале, — повторил Хрустов. — А сейчас некогда.
— Почему?
— Я на полпути, как и ты.
— Куда? На каком пути? — попался мешковатый во всем Борис.
— От обезьяны к человеку. Чего и тебе желаю.
Борис, недавно назначенный комсоргом бригады, заметно огорчился. Он начал бубнить, что Хрустов забыл про свой общественный долг, что даже слегка зазнался, как Валера Туровский, а ведь Левка талант, его стенд «усе хвалят», а песенку, которую он сочинил за один вечер, исполняли в прошлом году на седьмое ноября, что там только две строчки вызвали возражение комитета комсомола стройки — про то, как «разойдутся туманы — и восстанут Саяны», надо было добавить «ото сна», но не влезло, вот и получилось неточно с политической точки зрения, но песенка без одного куплета оказалась еще лучше: чем короче, тем лучше… И вообще, Хрустову давно бы пора прочитать лекцию о международном положении или о чем он сам пожелает, иначе бригада не выйдет на первое место в социалистическом соревновании, не хватает лекций. Хрустов должен вспомнить о своем общественном лице. В ответ на это Левка стал весело возражать, что нельзя отделять общественное лицо от сугубо домашнего, это еще кто-нибудь ляпнет, что у человека есть уличное лицо, автобусное или магазинное… так мы далеко не уйдем… Борис обиженно махнул рукой.
— Ну, ладно, ладно! — снисходительно кивнул Хрустов, закуривая. — Будет тебе «лэхсия». Что Спиноза-то завещал? То-то.
Итак, в этот день, не ожидая от жизни каких либо неприятностей, Хрустов по своему обыкновению продолжал за работой шутить, цитировал выдуманных философов. И вдруг… сверху, из синего неба в люк заглянуло смеющееся лицо Лехи-пропеллера:
— Левка-а!.. К тебе жена приехала!
Хрустов подавился горьким дымом сигаретки «Прима». В глазах поехало. Он задрал голову вверх, Леха-пропеллер спускался задом к нему и торопливо докладывал:
— Не вру! Девчонка с чемоданами… Говорит, меня вызывал — я приехала.
Хрустов стоял бледный, как к месту прикованный. «Это не розыгрыш, — дошло до него. — Господи! Неужели Галка Яшина?! Господи, зачем?! Зачем она приехала?..» Он, видимо, так переменился в лице, что Леха участливо спросил;
— Ты… ты чё? Не надо было?
Кто-то хихикнул рядом, кажется, Серега. Кто-то прошептал: «Конец Левке». Хрустов на слабых ногах медленно стал карабкаться по вертикальной железной лестнице, за ним Леха и все остальные, кроме бригадира Майнашева, который бесстрастно моргая смотрел им вослед. Машина с бетоном задержалась, все равно было делать нечего. «Зачем приехала? — думал со страхом Хрустов, почти ползя наверх, припадая животом к прутьям лестницы, задевая и тормозясь пуговками полушубка. — Зачем?..»
У них с Галей давно все кончилось. Она его ждала из армии, чистая, наивная, ясноглазая. Она дождалась его из армии, святая. Он был нетерпелив, а она до свадьбы не допускала его к себе. Она хотела, чтобы все было как у людей, чтобы в паспорте им тиснули прямоугольные печати и вписали туда фамилии, ей — что муж Хрустов, ему — что жена Яшина. Так делают все порядочные люди. Хрустов не возражал, но ему хотелось быстрее остаться с ней вдвоем ночью, когда даже звезд нет. Мальчишка был, сопляк, нетерпеливый стрелок, предал ее с первой попавшей девчонкой из томской геологической партии. Гале рассказали. Она не поверила. Но он-то знал, что не прикоснется теперь к Гале, запил, забуянил «в красной рубашоночке веселенький такой» и уехал, обвинив ее в самых черных грехах, — что она была неверна ему, что сама-то, сама, а он-то после того, как узнал о ней… Стыд перед собой и мерзкая ложь погасили в нем и желание видеть ее. Галя была теперь для него недосягаема, как недосягаемы для грибов в пещерах огненные Стожары. И если она все-таки сейчас к нему приехала… как больно, как тяжко, как совестно будет ему подойти к ней. Не говоря о том, что он себя никогда не простит, и она его не простит, а если и простит — будет еще больнее…
Хрустов медленно поднимался к сверкающему грозно голубому небу из теплого, затхлого, пахнущего бетоном и мокрыми досками блока. За эту минуту он мысленно пережил очень многое и был готов, может быть, даже к самоубийству — и всё из-за дурацкой своей игры неделю назад в буфете вокзала, когда он пригласил, позвал ее через незнакомых людей на стройку. «Значит, нельзя дразнить судьбу?.. Господи, разведи нас! Господи, сделай так, чтобы она сейчас же познакомилась с кем-нибудь и не дождалась меня! Сделай так, чтобы она стала за эти два года развратной женщиной — тогда я легко женюсь на ней. Черт тебя побери, какой такой „Господи“?! Кретин в небесах! Значит, нельзя, нельзя дразнить судьбу? Даже в шутку? Даже в минуту безвыходного одиночества? „У тебя Узбекова, а нам — некого“, — шутят парни. Но что — Машка? Она глупа, как овца. У нас ничего не было. Она некрасива. Я ей только руку поцеловал. За что мне такой удар?! Зачем ты, Галинка-малинка, мучаешь меня, добиваешь? Это что-то нечеловеческое — верить до сих пор, что я тебя люблю. И сама ты — неужто до сих пор не забыла меня? Прости, прости… Что же мне теперь делать?»
Наконец, он выкарабкался на крышу блока, на обжигающий, валящий с ног хиус, и глянул вниз — на дно котлована. Там, на снегу, в ярком солнечном мареве, стояли два человека, окруженные четырьмя или пятью чемоданами. Одного, Алешу Бойцова, Хрустов сразу узнал — он как раз задрал голову, смотрит верх, скуластый, у него белая песцовая шапка. А вторым человеком была девушка в шубке, она вертела головой в разные стороны и смеялась.
— Что?! Танька?.. — прошептал Хрустов.
Да, это приехала к нему Таня (к великому счастью, не Галя, не Галя Яшина!), Таня Телегина, с которой он познакомился года три назад, когда служил в армии под Красногорском и был в увольнении, танцевал с нею раза два в парке, проводил домой. Может быть, поцеловал. Но больше ничего не было.
«Мир потерял чувство юмора. Кто просил тебя, дурочка курносая, приезжать? И какой идиот не поленился — поперся искать тебя по адресу?! Бойцов ты Бойцов со своим идиотским фокусом, с двумя пальцами под платком!.. Ой, да что же это делают со мной?!»
Парни из хрустовского звена тоже вылезли и уставились вниз. Хрустов отошел от края крыши и присел, чтобы его не было видно снизу. Против солнца не должны разглядеть.
— Слушай, Леха!.. — заговорил он, сглатывая слюну. Сердце скакало, как в дурном сне. — Слушай!.. Ты меня не видел, ладно? А я — тебя… А я сейчас задами, по щитам старого блока…
— Куда? — негромко рявкнул Борис, ловя его за шкирку. — Сорок метров, лепеха останется.
— И пусть!.. — В голове гудело, как в самолете во время резкого приземления. «Хорошо, что не Галя… Но и эта — зачем она мне? Говорит — жена?! Не хочу! Курносая и пустая, как кукла! И шумно носом дышит. Что я с ней буду делать?»
Хрустов ломал руки, метался на полусогнутых:
— Братцы… ну, пьян был… тоска заела… Боря, Боренька, иди, скажи ей, что пошутил, а? Вот я денег дам, денежек на обратную дорогу. Пусть укатывает, а?
— Нет уж, сам иди, — нахмурился Борис. — Извинись, отправь. Люто, люто.
Подошел и Майнашев, постоял рядом, бесстрастный, как Будда:
— Конечно, если депушка приехала… покашись…
Хрустов медленно выпрямился, опасливо выглядывая за железную ограду.
— О кретин!.. — бормотал он. — Боже, какой кретин! Лезут, лезут с чемоданами… по ледяным доскам…
Да, они его заметили. Приезжие двинулись вверх по стенке соседней секции, останавливаясь, когда на них сверху сыпался оранжевый дождь сварки. Хрустов опередил их. Как обезьяна, мигом спустился вниз, к подножиям кранов, и стал ждать в театральном одиночестве, чтобы поговорить, не затягивая, резко, без свидетелей. И неожиданно для себя увидел — пятясь на снег сошла и нему приближается, показывая белые зубки, очаровательнейшая девушка в желтой шубке и красных мягких сапожках. Ей на пушистую розовую шапочку кто-то лихо, набекрень надел каску. Неужели это — Таня? Та самая, курносая пигалица, которую он знал три года назад?!
— Левушка! — выдохнула Таня и остановилась.
— Таня.
«Ну что стал? Делай что-нибудь. А что сделать? Обнять? По морде не залепит? А за что? Она к тебе же приехала!»
— Похудел, — прошептала Таня, разглядывая его. — Ты рад?
Он ошеломленно кивнул. «Неужели она? Красавица стала. Черные глаза, тонкое лицо. Черт знает что, а не рот. Сластена, наверно. С ума сойти, вытянулась, а была — пацанка».
— Нет слов. Все слова бедны, как феллахи, — наконец, нашелся Хрустов.
— Кто-кто? — Таня залилась шепчущим смехом. — Ты все такой же! И откуда столько знаешь?! Бороду отпустил… А разве Героям можно — бороды?
Тем временем Бойцов, тяжело вздыхая, поставил чемоданы рядом и вытер лоб рукавом полушубка. Его деревенское широкое лицо было деловито. Оно как бы говорило, что вот, попросили дров привезти — он и привез. А теперь пойдет, но это так обманчиво лицо говорило. Алексей не уходил. Он закурил и с интересом слушал Таню и Леву.