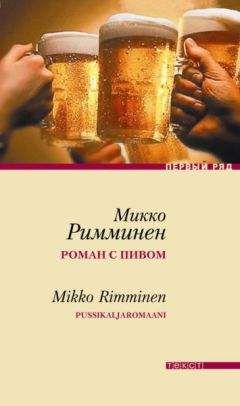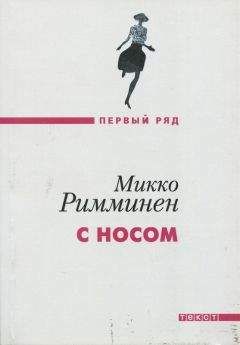Трамвай уехал. Контролеры грациозно удалились в свой угол, а на остановку снова стал прибывать народ. Хеннинен решил опереться на ограждение, вымазал руки в черной густой пыли, покрывавшей перила, и, разозлившись, стал яростно вытирать руки о штаны.
Жира внимательно следил за движениями Хеннинена, как будто в них крылся какой-то глубинный смысл. Он подумал и сказал:
— Да уж.
— Я правда, блин, уже на пределе, — устало произнес Хеннинен. Потом поднял глаза и еще раз добавил: — Все.
— Ну конечно, — сказал Маршал. — То есть меня, конечно, тоже все здесь затрахало, но я одного не понимаю, какого хрена ты выпендриваешься, ведь меня же оштрафовали, а не тебя.
— Да, да, — вздохнул Хеннинен.
— И что будем делать? — спросил Жира.
— Подождем другого трамвая, не один же он на свете.
— Да не могу я больше, ептить, не могу. Я хочу обратно, я не могу здесь.
— Чего это вдруг с ним? С вами что, случилось что-то по дороге?
— Да фиг его знает, — сказал Жира и посмотрел на Хеннинена, так серьезно, насколько умел. — Ты же сам первый все это предложил.
— Нах, — сказал Хеннинен, — я хочу обратно.
— Похоже, это никогда не кончится.
— Ни это, ни то, — согласился Маршал. — Ептить, сам не понял, что сказал.
После чего Хеннинен заявил, мол, вы как хотите, можете ехать, можете оставаться, и как бы в доказательство своей решимости вытащил из кармана помятую пачку сигарет, порылся в ней пальцем и вытащил на свет последнюю сигарету. Она сломалась. Он со злостью швырнул ее на землю, смял пачку в руке, и так и стоял, обидевшись и сжимая в кулаке жалкий комок серебристой бумаги, как будто это был его единственный талисман.
— Ладно, — сказал Жира примирительным и одновременно требовательным тоном, удивительно даже почему для него до сих пор не придумали какого-то единого названия, возможно, именно из-за его двойственности, которая многим мешала оценить его по достоинству.
Немного постояли. Потом издалека вдруг донесся приглушенный грохот, словно кто-то что-то взрывал где-нибудь в карьере. В небе с западной стороны стали одно за другим появляться высокие темно-серые облака, похожие на помятые цилиндры, и казалось, что там, на другом берегу небосклона, собралась целая группа грозных хиппи-великанов в невообразимых шляпах. Светофоры по обеим сторонам остановки работали, как им вздумается, очереди из машин медленно, толчками, продвигались вперед, словно находясь во власти долгой и мучительной судороги, на пешеходном переходе в районе трамвайных путей у какого-то идиота в костюме неожиданно открылся кейс и все бумаги веером разлетелись по земле. Смертельно побледнев, он кинулся их собирать, а опасность действительно была совсем близко, к остановке приближался трамвай, он собирал их, как оголтелый, и даже не успевал складывать, только крепко прижимал к груди, так крепко, что было очевидно — для него они очень дороги, а потом он запрыгал по переходу так, словно боялся намочить обувь, и это было очень смешно, особенно учитывая то, что он чуть было не попал под трамвай.
Трамвай подошел к остановке и выбросил навстречу новым пассажирам группу вновь прибывших. Образовалась небольшая потасовка, и хотелось крикнуть что было сил — разойдись!
А потом они сами, словно по приказу, разошлись, и сумятица исчезла сама собой, контролеры, наконец, зашли в вагон, и, похоже, получили, что хотели.
— Паф, — успел сказать Хеннинен, прежде чем глава закончилась.
Дождь начался, как только добрались до точки максимальной близости к месту первоначального отправления, то есть до остановки, противоположной той, с которой уезжали в город. Вначале его можно было только услышать — шелест где-то высоко в небе был похож на то, каким слышится глубоко под водой дождь, идущий над озером или морем, но уже через пару секунд на землю и стены домов упали первые зычные капли размером с мышь-землеройку, и очень скоро все переросло в поистине библейские громы.
— Только этого нам и не хватало, — проворчал Хеннинен и грозно, исподлобья взглянул на небо.
— Вот-вот, явно не хватало, — ответил Жира.
— Чего?
— Такого вот кривлянья. Все им, видите ли, не так, все, знаете ли, через задний проход.
— Вот я и тоже удивляюсь.
— А я сказал бы, что такие чрезвычайные ситуации очень даже хороши, — сказал Маршал. — Если вы, конечно, позволите мне так сказать.
— Валяй, — сказал Жира и закашлялся, не для вида, а на самом деле, вероятно, дождь поднял в воздух с изжарившейся за целый день земли какие-то вредоносные частицы, затрудняющие дыхание и вызывающие подозрения о внезапной газовой атаке.
— Такие чрезвычайные ситуации очень даже хороши.
— Почему-то мне все время кажется, что эти ваши повторения в это время суток действуют особенно убийственно, — сказал Хеннинен.
— Что есть, то есть, — сказал Маршал.
— Он, вероятно, имел в виду, что надо что-то делать.
— По-моему, мы уже довольно настоялись на этих остановках.
Жира тут же взял ноги в руки, ринулся с остановки на тротуар и стал осторожно вдоль стеночки продвигаться в сторону Хельсингинкату, для него это было совсем нетрудно, так как по своим физическим данным он был очень узкий. Под козырьками магазинов, в подъездах и подворотнях стояли люди, словно мусор, который прибивает к берегу быстрым течением, вода уже журчала по водостокам, с шумом вырываясь на тротуар, словно продолжительная и бесполезная брань.
Как-то вдруг случилось заметить, что света на улице стало гораздо меньше. Фонари не успели вовремя отреагировать на столь внезапно наступившую темноту.
Все-таки решили идти вперед в двухмерном пространстве, что по ощущениям вполне соответствовало тому, как если бы пришлось двигаться по карнизу небоскреба, спасаясь от полиции или, как вариант, от кровожадного маньяка-убийцы. Жира считал своим долгом вежливо здороваться со всеми серьезными дожделюбами, собравшимися в подворотнях, пожалуй, было какое-то величественное и благородное единение в этом всеобщем дрожании в подворотне, в таких местах обычно появлялась некая атмосфера бомбоубежища, типа, что, съел, бог-громовержец, не сломить тебе наш маленький народец.
Поспевать за Жирой было нелегко. Хеннинен шагал с незыблемо хмурым выражением лица, Маршал семенил следом, всем своим видом стараясь извиниться за поведение идущих впереди товарищей. Проезжающие мимо машины тихо шуршали шинами, где-то вдалеке, за целый квартал до остановки, резко затормозил трамвай.
Вышли к перекрестку.
— Итак, — сказал Маршал.
— Я как-то не вижу здесь особого множества вариантов, — и Жира показал на другую сторону улицы, где стоял небезызвестный ларек. Юни только что успел свернуться, у него было какое-то особое чутье, и он всегда заранее закрывался перед дождем или другими катаклизмами.
— Что есть, то есть, — сказал Хеннинен и стал переходить дорогу прямо по воде, громко хлюпая своими ужасными галошами, похоже, что на какой-то миг ему удалось взять себя в руки.
Под козырьком почему-то не было ни одного дожделюба, хотя обычно здесь даже в хорошую погоду собираются всевозможные искатели временного пристанища или домашнего тепла, как бы то ни было, решили, что лучше всего остаться здесь и, облокотившись на неровную металлическую поверхность стойки, протянувшейся под закрытыми окнами ларька, постояли некоторое время, допивая последнее пиво, которое в ходе всех произошедших перемен тоже изменилось, поменяв свою жидкую сущность на более густую и теплую. Стало наконец понятно, почему под козырьком было так пустынно: дождь был косой и на открытых пространствах лупил с такой силой, что его защитная способность была чисто номинальной.
И все же постояли, посмотрели на машины, пролетающие через перекресток, на который с четырех сторон стекалась вода, образуя громадную мрачную лужу, на жалких прохожих, которым в силу тех или иных причин приходилось идти куда-то без зонта. И когда уже вдоволь насмотрелись на всю эту мокроту, скрытые желания стали вновь выползать наружу. Маршал подумал, что неплохо бы что-то сделать, и сказал потом, что неплохо бы чем-нибудь заняться и, если уж ничего другого в голову не приходит, то хотя бы, черт побери, сыграть в кости, потом настал черед Жиры, и он сказал, что хочет есть, и в этом, конечно, не было ничего неожиданного, разобравшись с желаниями, по крайней мере, с двух сторон, двинулись дальше и посмотрели на Хеннинена, который так и не нашел любовь, которую искал весь день, но который сейчас, судя по его демонстративному молчанию, старался всячески показать, что эта тема его ни капли не интересует, и пусть он ничего не хотел, все же вид у него был такой, будто чего-то ему все-таки было надо.
— Хенннинен, — сказал Маршал, — спаси нас.
Хеннинен стоял и безучастно смотрел на последний стремительно уменьшающийся сухой кусок земли, остававшийся под козырьком, и голова его склонялась все ниже и ниже, как будто бы он только что продал эту землю, почему-то вдруг такое пришло на ум, хотя никакой земли у него в помине не было. Вид у него был не только подавленный и побитый, а какой-то чересчур вялый, он словно одновременно надулся и съежился, и, кстати сказать, теперь он точно выглядел как намокшее пугало или полохало, тут уж пусть каждый сам выбирает, в зависимости от вкуса и среды обитания.