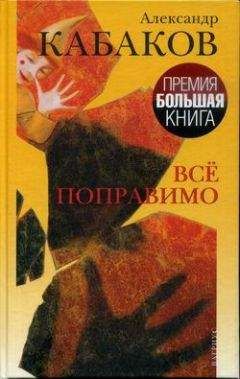Он шел домой быстро и всю дорогу громко, как мог, свистел. В последние дни к нему привязалась песня, где были странные, совершенно непонятные ему слова — только их он и запомнил — «прощай вино в начале мая, а в октябре прощай любовь», и он все время или тихо ныл эту мелодию, либо высвистывал. Надо будет остальные слова разобрать, когда по радио передавать будут, думал Мишка, надо будет разобрать…
Рано утром приехал на дежурном открытом «газике» дядя Сеня. Присели на дорогу кто где — дядя Сеня на кровать, мать на стул посреди комнаты, Мишка на большой чемодан. Солдат-шофер погрузил вещи, мать еле поместилась рядом с ними, а Мишка с удовольствием пристроился на кожухе над задним колесом, отмахнувшись от матери, которая боялась, что он вывалится. Дядя Сеня сел рядом с шофером, и поехали по пустому — было начало шестого — утреннему городку.
Тут Мишке вдруг, несмотря на мысли о предстоящей поездке, сделалось ужасно грустно. Ехали по пустым асфальтовым улицам, среди уже выгоревших к середине лета серо-зеленых акаций, среди зарослей веников, выплескивающихся из дворов, среди двухэтажных зеленых восьми— и желтых двенадцатиквартирных домов, проехали уже достроенный до второго этажа Дом офицеров, старый клуб, школу, повернули на улицу, где жила Нина, но до ее дома не доехали, а сразу свернули к проходной…
Мишка в последнее время плакал редко, как-то ему стало стыдно плакать после похорон, но тут он почувствовал, что слезы уже подступают, и, чтобы сдержаться, судорожно вздохнул, почти всхлипнул.
А мать плакала всю дорогу, не глядя по сторонам — без очков она все равно ничего не видела, а очки сняла, чтобы вытирать слезы.
На станции, на длинном, выложенном бетонными плитами перроне было пусто, только в дощатом зеленом домике вокзала стоял, покачиваясь на каблуках и разглядывая расписание на стене, совсем молодой лейтенант в наглаженном кителе с инженерскими серебряными погонами, с маленьким чемоданчиком в руке, да возле стены спал человек в распахнутом, надетом на голое тело ватнике, и в его раскрывшемся во сне рту сверкали зубы — все стальные. Дядя Сеня ответил на небрежное приветствие лейтенанта, недовольно покосился на спящего, процедив сквозь зубы «амнистия… черт, расползлись по всей стране…», и прошел к кассе, вытаскивая на ходу билеты — компостировать. Мишка вышел на перрон. Бетонные плиты были уже теплые от раннего солнца, воробей старательно прыгал по ним, собирая невидимые крошки. Солнце слепило глаза и было понятно, что часа через два настанет обычная жара, поплывет дымкой воздух над рельсами. Вышли и дядя Сеня с матерью, солдат притащил вещи, сложил кучкой ближе к началу перрона, где должен был остановиться вагон, тут и показался мотовоз, который медленно тащил вагон — из Заячьей Пади ходил прицепной, который здесь и цепляли к проходящему Саратов — Москва.
Все засуетились. Дядя Сеня отдал проводнику билеты и принялся затаскивать в тамбур один за другим чемоданы. Подошедший лейтенант стал помогать. Потом долго перетаскивали вещи в глубь вагона, затащили, Мишка с матерью пошли следом. Вагонный пол был еще влажный после уборки, на полотняной дорожке, уложенной поверх ковровой, были мокрые пятна. Ведя правой рукой по прутьям, на которые были надеты кремовые занавески, Мишка прошел, стал в коридоре, пока дядя Сеня с лейтенантом забрасывали наматрасник наверх и распихивали чемоданы под нижнюю полку. У лейтенанта билет был в соседнее купе, ехал он тоже до Москвы, и дядя Сеня попросил его присматривать за матерью и Мишкой, а в Москве помочь с вещами и посадить в такси.
Стали прощаться. В тесноте купе дядя Сеня неловко обнял мать, прижал к шершавому боку кителя Мишкину голову, в который раз попросил мать быть поосторожней, потому что амнистия и чемоданы вытаскивают крючками через окно, и, задевая стены погонами, пошел к выходу. Мишка сел, отодвинул занавеску, стал смотреть на перрон. Вот появился перед окном и дядя Сеня, улыбнулся Мишке, снял фуражку, принялся вытирать пот со лба платком, и Мишка вдруг увидел, что он совершенно седой, все волосы белые, а недавно еще, вспомнил Мишка, чуб у него был черный. Заглянул в купе лейтенант, спросил, как устроились, встал в дверях, махнул дяде Сене — мол, будьте спокойны, товарищ полковник, довезу. Мотовоз истошно, почти человеческим криком взвыл, вагон дернулся, перрон с дядей Сеней и зеленый домик вокзала с белыми буквами «Заячья Падь ЮВжд» поехали назад…
И Мишка вдруг именно сейчас понял, что едут они с матерью вдвоем, потому что отца нет и никогда не будет, никогда они уже больше не поедут втроем, как ездили каждый год в отпуск.
А мать, щурясь под толстыми стеклами очков и выдавливая прищуром все новые слезинки, невидящими глазами смотрела в окно и все махала дяде Сене, которого уже давно не было видно, а ползла и струилась за окном серо-зеленая, местами выгоревшая до серо-желтой полынная степь.
Из-за неплотно задвинутой рамы окна сыпалась мелкая черная гарь и проникал запах паровоза, но, к Мишкиному удивлению, его теперь не тошнило. Застелили влажные простыни, укрыли их шерстяными одеялами во влажных пододеяльниках, сели завтракать.
Пришел лейтенант Коля, принес кусок голландского сыра и два больших помидора, разломал каждый пополам, и на изломе выступил серебряный мороз. Мать достала из клеенчатой сумки жареную курицу, завернутую в кальку, крутые яйца, соль в спичечной коробке, большой белый хлеб. Проводник спросил, нести ли чай, и принес три стакана в подстаканниках из нержавейки с выдавленными паровозами и надписью «Юго-Восточная железная дорога», ложечки болтались в стаканах, а маленькие аккуратные кусочки рафинада были упакованы по два в бумажные длинные кирпичики. Мишка достал серебристый складной ножик, Коля порезал им хлеб, вытер об газету и, уважительно рассмотрев, сложил и вернул Мишке. Мишка съел одно крутое яйцо и полпомидора, выпил полстакана чаю и пошел в коридор смотреть в окно.
В вагоне было пусто, пока ехали только они с матерью и Коля, еще пассажиры могли подсесть по дороге, хотя обычно «заячий» вагон заполнялся только теми, кто ехал прямо из Заячьей Пади. Мишка отодвинул занавеску и стал смотреть на степь, на проносящиеся мимо маленькие станции с горами щебня вблизи путей и большие, сортировочные, с расходящимися и сходящимися, струящимися врозь и сливающимися в одно металлическими ручьями рельсов, на пролетающие пустые короткие перроны и опять на бесконечную степь.
Проводник включил трансляцию, и певец Бунчиков запел «а я гляжу в оконное вагонное стекло», и Мишке, как всегда от этой песни, сделалось тревожно и хорошо, песня будто ускоряла движение вагона, что-то в оркестре постукивало, вскрикивал будто бы паровоз, и Мишка летел вместе с мелодией.
Потом захотелось спать, потому что очень рано встали. Мишка пошел в купе и лег к стенке поверх одеяла, а мать сидела рядом и разговаривала с лейтенантом Колей. Он рассказывал ей о своих планах на отпуск: что будет жить у друга, которому повезло, послали после училища в Нахабино под Москву и сразу дали комнату, что собирается пойти в театр на «Свадьбу с приданым», где играет актер Доронин, на которого Коля, как говорят, очень похож, а еще обязательно, конечно, попадет в мавзолей, хотя туда теперь, рассказывали, стоят огромные очереди, и посмотрит на новый высотный университет на Ленинских горах… Еще он рассчитывал в Москве найти и купить не очень дорогой, тысячи за полторы, гражданский костюм, может быть, рижского или ленинградского пошива, хотелось бы, конечно, из ткани «метро» или «ударник», но боится, что в полторы тысячи не уложится…
Мишка заснул и сразу увидел сон.
Во сне он продирался сквозь заросли бамбука на заднем дворе военного санатория в Сочи. Все мальчишки и даже молодые лейтенанты, отдыхавшие в санатории, лазили в бамбук, чтобы срезать несколько стволов и увезти эти прекрасные удилища домой — на память и чтобы рыбу ловить в своих речках дома. А начальник хозчасти санатория, маленький круглый капитан в белом полотняном кителе, которого все звали капитан Пузырь — может, это была его настоящая фамилия, — ловил браконьеров, мальчишек больно стегал по чем попало этим же срезанным бамбуком с острыми листьями, а лейтенантов долго стыдил и обещал выписать в часть с представлением на гауптвахту, но бамбук не отбирал. И вот теперь Мишка, царапая голые руки и ноги, пробирался сквозь бамбук с серебряным ножичком наготове, выбирая, какой ствол, не слишком толстый, срезать. Он уже весь исцарапался — и вдруг неожиданно выбрался на край зарослей и увидел, что там его ждет не Пузырь, а отец. Отец почему-то был в шинели и ушанке, и Мишка очень удивился тому, что отец в Сочи ходит в таком виде, а не в пижаме и белой пикейной панаме, как обычно, — сам-то Мишка был в майке, черных сатиновых трусах и тапочках с обернутыми два раза вокруг щиколоток шнурками. Отец крепко взял Мишку за руку, вытащил из нее ножик и молча повел с собой. Они вышли на дорогу, которая вела от проходной городка на базар и дальше, через пустырь, в село. Отец шел быстро, и Мишка бежал рядом, задыхаясь. Они миновали совершенно почему-то пустой базар, и тут отец отпустил Мишкину руку, Мишка остановился перевести дух, а отец пошел дальше все так же быстро, удаляясь и унося серебряный ножик. Мишка оглянулся — он стоял один посреди глинистого, грязного, как бывает осенью и весной, пустыря. Отца уже не было видно. Мишке стало страшно, и он проснулся.