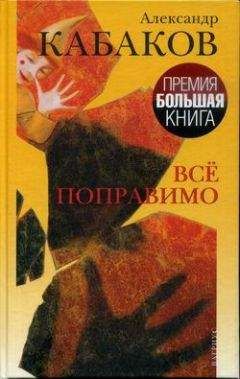Он лежал, во сне раздетый матерью, под одеялом. В купе было совершенно темно, клеенчатая штора на окне была опущена и пристегнута внизу к раме, но сбоку, из-за ее края, мелькал и вспыхивал свет. Мишка потянулся, немного отодвинул край и увидел текущие вдоль дороги ленты огней, они взлетали вверх и опадали — недалеко была большая станция, и фонари освещали подъезды к ней.
И назавтра были большие станции, на одной из них поезд стоял почти час, Мишка с матерью вышли на перрон и пообедали за длинным столом, вынесенным из ресторана — поели горячее, борщ и биточки с макаронами. Лейтенант Коля сбегал в буфет, принес бутылку вина «Ркацители», они с матерью выпили из стаканов, вынутых для этого из подстаканников. Потом Мишка опять спал, и опять ему снился пустырь у края городка, но отец уже не снился.
Глава четырнадцатая. Москва
На Павелецком Коля выхватил из толпы носильщика, тот навьючил на лямку разом все вещи и пошел к площади так быстро, что Мишка с матерью и Коля почти бежали за ним, проталкиваясь среди солдат, теток со связанными платками и перекинутыми через плечо сумками и огромного количества одинаковых людей в ватниках, с острыми худыми лицами, толкавшихся без видимой цели. Мишка вспомнил слово «амнистия» и того человека с железными зубами, который спал в вокзальчике Заячьей Пади. Мать прижимала к груди свою маленькую сумку, держала Мишку за руку и беспомощно — выражение лица у нее было уже не презрительное, а жалобное — щурилась за очками, глядя вперед, туда, где мелькал носильщик с грудой их вещей.
Взяли такси, коричнево-кремовую «Победу» с лентой шашечек вдоль борта, разделяющей цвета. Попрощались с Колей, пожавшим по очереди руки матери и Мишке и сразу исчезнувшим в толпе, валящей к метро. Поехали.
Мишка смотрел в окно и вспоминал Москву, а город плыл и мелькал, пролетело мимо высотное здание, похожее на сталагмит из учебника, вокруг мчались другие машины, и Мишка долго оглядывался, вывернув шею, на свернувший направо серый открытый автомобиль, марки которого он не знал — таких больших открытых машин он еще не видел, но предположил, что это трофейный «хорьх»… Дома выстраивались в скалистые горные хребты, но некоторые высились среди пустырей одиноко, демонстрируя боковые глухие стены, на которых оставались отпечатки некогда пристроенных с этой стороны других домов либо были натянуты огромные полотнища с нарисованными розоволицыми мужчинами и женщинами и с написанными призывами пить натуральные соки и хранить деньги в сберегательной кассе, которые Мишка не успевал на ходу машины дочитывать до конца и угадывал смысл по первому слову. Милиционер-регулировщик в белой полотняной гимнастерке и фуражке в белом чехле поднял жезл, все машины остановились, а поперек поехали другие, среди которых Мишка углядел зеленую полуторку с солдатами в кузове и с прицепленной маленькой пушкой с задранным в небо стволом в брезентовом чехле. Постояли, поехали дальше, свернули направо, Мишка узнал улицу Горького, здесь застряли, пережидая, пока неповоротливый двухэтажный троллейбус отойдет от остановки, опять свернули направо и остановились. Шофер выгрузил из багажника чемоданы на тротуар, положил сверху наматрасник, мать достала из сумки небольшой газетный пакет, который — Мишка видел — дядя Сеня дал ей, прощаясь, осторожно развернула, дала шоферу деньги, и «Победа», развернувшись, уехала.
Мишка с матерью остались на тротуаре. Дом, где жили Малкины, смотрел на них блестевшими под солнцем, переливающимися окнами. Мать присела на угол большого чемодана, задрав голову, посмотрела вверх, туда, где сверкали на пятом этаже невидимые ей три окна Малкиных.
— Сбегай наверх, — сказала мать Мишке, — позвони в дверь, а я посижу с вещами. Если никого дома нет, сразу спускайся…
Мишка вошел в подъезд. В подъезде было темно и прохладно, от бетонных ступенек пахло сыростью, открытая дверь в подвал тихо скрипела, двигаясь от ветра, вылетавшего из подвальной тьмы. Мишка побежал наверх пешком, поскольку не был уверен, что справится с лифтом, кабина которого темнела за сеткой шахты. Задирая ноги, чтобы шагать через ступеньки, Мишка живо проскочил мимо коричневых, утыканных кнопками звонков и табличками дверей второго этажа, ловко, держась за перила, крутнулся на повороте на следующий лестничный марш, но на третьем этаже устал, немного задохнулся и пошел медленно. Шаги его гулко отдавались в пространстве лестничной клетки.
Он вспомнил, как однажды, давным-давно видел здесь рано утром двух милиционеров в толстых синих шинелях и с косыми кобурами наганов на ремнях, тащивших вниз огромную тетку в рваном тулупе и коротких, обрезанных валенках. Про эту тетку все знали, что она сумасшедшая и пьяница, живет на чердаке и когда-нибудь устроит там пожар, и вот милиционеры забрали ее. В то утро Мишка вышел гулять и увидел, что на углу, где всегда низким столбиком торчал на своей деревянной коляске с подшипниками, как у самоката, безрукий и безногий инвалид Вася, весь в орденах и медалях на вытертом добела офицерском кителе без погон, собиравший милостыню в лежавшую перед ним на асфальте летную фуражку, на этом углу никого нет. Мишка подумал, что, наверное, толстая глухонемая женщина, которая всегда привозила и увозила Васю, а днем приходила, забирала монеты, открывала шкалик «красной головки», вливала его содержимое Васе в рот, а потом кормила инвалида хлебом с маргарином, сегодня проспала. Но Вася не появился и днем, и на следующий день, а потом Мишка привык к тому, что безногих инвалидов на деревянных колясках вообще в Москве не стало, и забыл о них.
От этих воспоминаний Мишке стало так же нехорошо, как раньше становилось, когда он видел инвалидов или оборванцев, и он подумал, что сейчас подойдет к двери Малкиных, позвонит, тетя Ада откроет и окажется, что все хорошо, дядя Петя вернулся и на работе, Марта где-нибудь шляется, а они с матерью начнут распаковывать вещи, и мать все время будет разговаривать с тетей Адой, присаживаясь среди вынутых из чемоданов вещей… Он встал перед малкинской дверью, отдышался, дотянулся до звонка, покрутил его, за дверью задребезжало, и наступила тишина.
И Мишка увидел, что к двери и косяку прилеплена бумажками веревочка, концы которой свисали из-под бумажек, а на бумажках синели смазанные круглые печатные оттиски.
Он механически крутнул звонок еще раз, снова дребезжанье раздалось в тихой пустоте за дверью. Потоптавшись на площадке, Мишка пошел вниз. На последнем пролете хотел было съехать по перилам, но раздумал.
Мать сидела там, где сидела.
— Никого нет, — сказал Мишка. — Никого и дверь… ну, это… опечатана… Мам?..
Мать сидела на чемодане, глядя прямо перед собой, и Мишка понял, что сейчас из-под очков потекут слезы. Надо было что-то говорить, пока мать не заплакала.
— Мам, давай я к Ахмеду схожу, к дворнику, — сказал Мишка, — узнаю у него, где все Малкины… Ладно, мам?
Мать молча кивнула. Мишка повернулся, побежал в подъезд. Там он прошел мимо черного провала двери в подвал, спустился по короткой лестнице к черному входу, сильно толкнул залипшую входную дверь, вышел во двор, повернул направо и остановился перед низкой дверью дворницкой квартиры. Звонка на двери не было, Мишка сильно постучал. В дворницкой слышались голоса, но никто не открыл. Тогда Мишка осторожно потянул на себя дверь, она подалась, и Мишка вошел.
В маленькой темной прихожей, сплошь завешенной какими-то тряпками, густо стоял ненавидимый Мишкой запах крестьянской шерсти, кислый и влажный. Из прихожей была видна вся большая, с выходящими на уровень уличного тротуара двумя низкими окнами, комната. Посреди комнаты стоял стол, рядом с ним висела на веревках, привязанных к крюку в потолке, большая корзина, из которой раздавался ленивый, негромкий, но не прекращавшийся ни на секунду детский плач. На столе помещались четвертная, в каких держат керосин, бутыль, наполовину налитая молочно-мутной жидкостью, разломанная буханка черного хлеба и большие желто-зеленые соленые огурцы в эмалированной белой миске. За столом на табуретках сидели двое — Ахмед, которого Мишка, к своему удивлению, сразу узнал, сухой человек с темным лицом и жесткими черно-седыми волосами, торчавшими в разные стороны, в синей рубахе навыпуск, в черных, заправленных в смятые сапоги штанах, и второй, сидевший спиной, с короткой седой щетиной на голове, в таком же ватнике, в которых за последние дни Мишка видел многих мужчин на вокзалах, в серых бумажных штанах, в грубых ботинках, как у рабочего. Перед мужчинами стояли граненые зеленоватые стаканы, и как раз, когда Мишка вошел, Ахмед встал и начал, не поднимая со стола, наклонять бутыль, пытаясь налить из нее в стакан, стоявший перед человеком в ватнике.
— Дядя Ахмед! — негромко позвал Мишка. — Дядя Ахмед, это я, Мишка Салтыков из девятой квартиры…