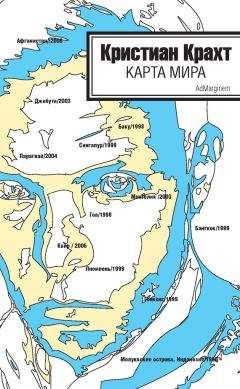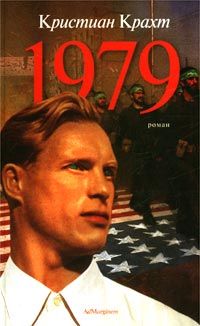Кристиан Крахт: Вас ни разу не ранило?
Бернхард Фишер: Нет, у меня же был амулет. Погибли многие, очень многие, а со мной ничего не случилось. Одна пуля попала мне в руку, через рукав униформы, и прошла навылет, вот в этом месте, взгляните. Однажды, в конце войны, я наклонился, чтобы напиться, там было почти высохшее речное русло, до этого места мы гнали боливийцев, потом окружили их и прижали к реке, они падали вниз с откоса, а мы сверху их расстреливали. Река текла сверху, с отрогов Анд. Так вот, я нагнулся, чтобы напиться, — и тут просвистела пуля, коснувшись моих волос, я это кожей почувствовал, она была очень горячей. Не нагнись я в тот момент, она бы угодила мне в лицо.
Кристиан Крахт: Спасибо амулету.
Бернхард Фишер: Он был лишь данью суеверию. Меня хранил Господь.
Кристиан Крахт: Пожалуйста, расскажите об амулете.
Бернхард Фишер: Я носил его на шее, я и два моих брата, которые ушли на войну одновременно со мной, у них тоже было по амулету. Он представлял собой маленький сложенный листок, помещенный в маленькую коробочку, которая висела на шее, вот так. На листке было написано — я точно уже не помню — «Храни нас Бог, да не тронет пуля того, кто это носит», — или нечто подобное. Мы потом на фронте каждому парню, который умел говорить по-немецки, тоже сделали по такому же амулету, мы просто списывали слова и вешали бумажку ему на шею. Мои братья тоже не были ранены. Однажды мы двигались по песчаной дороге, уже на боливийской территории, с дороги можно было видеть горы, вздымающиеся вверх, очень высоко вверх, — туда бежали боливийцы, оставив убитых и раненых. Они лежали по обе стороны трассы, совсем как выброшенные поленья, и один из раненых, молодой боливийский парень, совершенно светловолосый, говорил по-немецки и все время повторял: «Я умираю от жажды. Дайте мне воды». Но я не мог дать ему воды — он же был враг, впрочем, и у нас самих ее не было. Потом он умер у нас на глазах. Много позднее моя мать тоже повесила себе на шею один из таких амулетов. Ей было уже далеко за сто, когда ее схоронили.
Кристиан Крахт: Но она ведь не участвовала в войне?
Бернхард Фишер: Участвовала, участвовала, в последний год войны она стала санитаркой, как только начали поступать раненые. В столицу каждый день прибывали битком набитые ранеными поезда. Мать работала в военном госпитале Асунсьона, зашивала раны солдатам, ампутировала руки и ноги, делала то да се. Наши соседи не верили в амулет, они сказали, что повесят его на собаку, потом в нее выстрелят, тогда, дескать, и посмотрят, на что он годится.
Кристиан Крахт: А что делали с пленными?
Бернхард Фишер: Боливийцы с нашими всегда хорошо обращались. Им было что кушать, их снабжали продуктами. А мы в отличие от них вели себя нехорошо. Раненых пленных переправляли в Асунсьон и там помещали в очень плохой госпиталь, где было лишь несколько врачей, и многие из раненых умирали. Раненых, которые могли ходить, прогоняли через Асунсьон пешим ходом, гражданское население плевало в них, забрасывало их камнями и било железными прутьями. Повсюду на улицах лилась кровь, в те дни я стыдился того, что я парагваец, но это было уже позднее.
Кристиан Крахт: После того как война закончилась?
Бернхард Фишер: Да, но мы узнали о ее окончании только через несколько дней. Ведь сообщение должно было прибыть из Асунсьона, а телеграфных столбов не было, и радиосвязи — тоже. Все приказы приходили к нам на север с опозданием в несколько дней. Так и вышло, что мы продолжали сражаться, хотя война давно кончилась. А потом мы, наконец, получили все сообщения и отправились на боливийскую сторону, а они — к нам, и мы обнимали друг друга и плакали. Мол, что прошло, то прошло.
Египетская фанера
Визит в Каир. 2006
Сверкание дельты Нила под крылом, посадочная полоса цвета охры, солнце, планета пустынь, Арракис[21], пережженная умбра египетской зимы, прибытие в Каир, медленное выруливание самолета Egypt Air, аэропорт, облицованный желтой плиткой, неоновое освещение, препостмодернизм, «Дюна» Дэвида Линча[22].
Мужчины на таможне, они те же, что и тогда, их черные мундиры из грубой шерсти, кожаные ремни, обтягивающие могучие животы, бритые черепа, бороды, сонный, абсолютно равнодушный взгляд в паспорт, рутинная тяжеловесность штемпеля, опускающегося с лязгом на две приклеенные марки, одну оранжевую, другую зеленую — все в точности так, как тогда, пятнадцать лет назад.
Присев в гостинице «Фламенко» на край постели, я попытался, в некоторой растерянности, упорядочить игру воображения. В ванной глядел в зеркало. Несколько раз прошептал: «Арракис», «пустынная планета». Вечером попробовал по телефону договориться с кем-нибудь из Гете-института, чтобы поужинал со мной. Но у всех уже, к сожалению, были другие планы, поэтому я поехал один в отель «Виндзор», что находится на другом берегу, в Эзбекии. Тотчас же вспомнились давно позабытые, как казалось, слова: malesh, alatoul, min fadlak, wah bessamacht, shokran[23]. Опять эти красивые черно-белые такси, «Пежо 504», эти изношенные от времени, никогда не латаемые интерьеры — над задним сидением вмонтированы сверкающие голубым светом неоновые лампочки, которые для глядящего с обочины дороги превращают такси в аквариумы, едущие сквозь каирскую ночь, а пассажиров при светло-голубом освещении — в толстых золотых рыбок, плывущих по артериям города.
Шария-аль-Альфи, прежде вдоль и поперек изъезженная, темная, грязная, таинственная и, чтобы возразить Эдварду Саиду[24], именно поэтому абсолютно восточная — теперь, спустя годы, это ярко освещенная пешеходная зона, и уже не понять, находится ли она в Копенгагене, Окленде или Стамбуле.
В знаменитом, обшитом деревянными панелями баре отеля «Виндзор», в котором со времени моего последнего приезда пятнадцать лет назад вообще ничего, к счастью, не изменилось, утонув в кресле, полтора часа читал фундаментальный труд Атанасиоса Бастекиса о христианском православии. Не знал не только того, что литургии египетской коптской и русской православной церквей очень похожи, но и что в изображении, которое коптский художник и русский иконописец наносят на дерево или золото, действительно живет Бог. По стенам развешены вставленные в рамки фотографии странствующего по свету комика Майкла Палина[25], ухмыляющегося. Нубийский владелец бара неторопливо и благоговейно вытирает светлой тряпкой пивные бокалы.
В половине седьмого, ненадолго задремав над фундаментальным трудом Бастекиса, внезапно очнулся, расплатился за бокал пива Stella и, скорее от усталости, чем от скуки, отправился на ту сторону, в «Рамзес Хилтон». Исследованию тамошнего казино помешало скопление людей, по происхождению преимущественно из Восточной Европы и Черной Африки, совершенно очевидно какая-то секта, чей вождь устроил на четвертом этаже «Рамзес Хилтона» обильный по-восточному стол с холодными закусками. Взяв тарелку, последовал первому правилу вторжения на чужую пирушку: никогда не стоять на месте. Брать еду, брать напитки, улыбаться, накручивать круги, кушая и выпивая на ходу.
При этом безуспешно пытался расшифровать надписи на пластиковых карточках, прикрепленных к лацканам членов секты. Секта или неправительственная организация? Там было написано: «Открытое общество» и «Украина», «Болгария», «Кения», «Ботсвана». На столе стояли фрикадельки из ягнятины, шпанокопита[26] и сатайский цыпленок[27], к этому — египетское красное вино марки «Обелиск». Второе правило при вторжении на чужую пирушку: нигде долго не задерживайся. Еще раз отведал фрикаделек из ягнятины, потом — снова на улицу, в ночь, на такси, «пежо», к себе в гостиницу. Под нильскими мостами, как черви пустынь, плывут моторные лодки.
В кулуарах отеля «Фламенко» встретил Халеда Аббаса, который издает арабскую антологию под заголовком «Новые рассказы из Германии». Он походит на упрощенную версию Максима Биллера[28]. Вместе в «Греческом клубе Каира», второй ужин. Мы говорим о блоге Томаса Бруссига[29], который читается всеми с огромным интересом; он, то есть Бруссиг, получивший годичную стипендию Гете-института, выступает тут в роли городского летописца Каира в форме ненавязчивой, легкой беседы повествует о своих переживаниях в шестнадцатимиллионной египетской столице.
К нам подсаживается Ахмед Ибрагим со своей женой, они заказывают греческим официантам пиво Stella и хумус. Те снуют по всему просторному залу, украшенному лепниной и вентиляторами на потолке; кельнеры с черными бабочками и в белых кителях, они отряхивают белыми полотенцами черные брюки, они — левантийский, эгейский, мальтийский, ливанский вариант средиземноморской экспансивности.