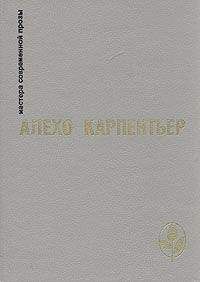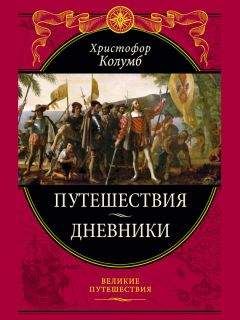От трубы-раковины до трубы-горна — на протяжении всей истории карпентьеровского «театра» господствуют два конструктивных и стилевых принципа, две неразрывно связанные, переплетающиеся линии диалектики Изменения: Порядок и Беспорядок — воплощения Хаоса и Гармонии. Универсальные ритмы, порождающие внутренние ритмы композиции и образной драматургии, напоминают нам о музыке. Карпентьер, композитор и музыковед, особое внимание уделял афрокубинской музыке и инструментам, сам новаторски вводил в профессиональное искусство самобытные негритянские ритмы. Для него музыкальная стихия — одно из наиболее полных воплощений «музыки» творения жизни, наиболее полный образ вечного преобразования в сцеплении, симбиозе, переплетении, взаимодействии явлений, вещей, людей — всего, что хаотически перемешивает Беспорядок, устремленный к новой гармонии. А потому музыкальное начало оказывается организующим в поэтике карпентьеровского «космоса». По мнению кубинского музыковеда и литературоведа Л. Акосты, романы Карпентьера строятся на основе классической музыкальной сонатной формы с ее четким членением: экспозиция, разработка, реприза и кода, где в финале синтезируются на новом уровне все темы и мотивы произведения. Особое значение для Карпентьера имел барочный «Concerto Grosso» («Большой концерт») с его вольной стихией музыкальных превращений, выливающихся в итоге в строгую и гармоничную форму. Нередки и вполне справедливы также сравнения композиции и внутреннего строения романов Карпентьера с архитектурой — ведь он изучал архитектуру и навсегда сохранил к ней глубокий интерес, в первую очередь к архитектуре барокко с ее динамичной пластикой, сменой ритмов и контрастами. И зодчество — «застывшая музыка», и музыка — «звучащая архитектура» впоследствии также станут источником глубочайших символов, которые в «Царстве земном» угадываются в ритмичности смены контрастов, в жестких ритмах Беспорядка, что ворвался в человеческий мир с пением раковины-трубы, когда вслед за великими переменами 1789 года во Франции, в Европе, до острова Гаити доходят взрывчатые воззвания и приказы революционной власти, отменяющей рабство в колониях и ломающей старую иерархию отношений рабов и господ, черных и белых… Старый порядок сломан, но что придет ему на смену, какое чудо родит Великая Перемена? Пока перед нами «разнузданный разгул» превращений, «Святой Бедлам» — так называется одна из глав романа. Распались связи вещей, бурлит плазма истории. Метаморфоз множество, но есть перемена высшего порядка, обнимающая все более частные, — это столкновение и взаимопроникновение двух миров: мира Европы, мира белых людей — и рождающейся новой Гаити, мира черных людей. Сломаны старые общественные и расовые границы, а вместе с ними и границы расово-культурные, рушатся барьеры сознаний, верований, обрядов, мифологий (христианской и воду — синкретической религии гаитянских негров), они начинают взаимодействовать, взаимоосвещать и взаимообъяснять друг друга. «Тот» и «этот» миры вступили в бурное драматическое общение, в сотворчество, в диалог — происходит действо на сцене Театра Истории.
Старинная метафора барокко «мир — это театр» у Карпентьера оказывается коренным композиционно-стилевым принципом, организующим все романное пространство — сцену, и реализуется полнее всего в идее о том, что человек — актер на сцене истории. Поэтому особое идейно-художественное значение имеет момент переодевания персонажей, когда герои, меняя роли, не только надевают новые костюмы, но и по зову раковины-трубы примеряют новые духовные наряды — мысли, лозунги, убеждения. Но каждый из героев обязательно окажется в чужом одеянии, в чужой маске. Особенно ярко решающая роль этого принципа обнаруживается в картинах маскарадной, ярмарочной жизни эмигрантов-рабовладельцев, бежавших с Гаити от восставших рабов в соседний Сантьяго-де-Куба, или, например, в шокирующем эпизоде «Святого Бедлама», где занесенная судьбой на Гаити родственница Наполеона Полина Бонапарт во времена эпидемии (универсальный символ апокалипсического состояния мира — пир во время чумы!) приобщается к черной магии гаитянского воду и начинает переодеваться в новые одежды. Но все эти частные переодевания и смены масок черных и белых героев романа имеют общий знаменатель, обобщающий образ: Гаити — страна черного люда, переодевающаяся в ходе Великой Перемены в костюм Европы, откуда прозвучал сигнал к началу действа, повторенный раковиной-трубой негров. Здесь идея переодевания, тема смены масок обретают глубинный идейный смысл. Тот наряд, который примеряет американский черный люд, — «свобода, равенство, братство!» — оказывается всего лишь шутовской и зловещей маской оборотня.
Негр Анри Кристоф, бывший кухмистер, выдвинувшийся в руководители восстания, как и Наполеон Бонапарт, превращается из революционера в монарха. Новоявленный деспот, который устанавливает новое рабство, наряжен писателем в нелепо сидящий на нем европейский костюм и наполеоновскую треуголку. По распоряжению Анри Кристофа вновь ставшие рабами негры волокут в гору тяжелые каменные глыбы — там воздвигается небывалая мрачная цитадель, что-то вроде гигантской тюрьмы — воплощение нового Порядка. Герой романа, бывший и новый черный раб Ти Ноэль тащит в гору камень. Здесь просматривается прямая и много раз отмечавшаяся связь с образом Сизифа, который получил завершенную экзистенциалистскую трактовку в творчестве Альбера Камю: тяжкий и бессмысленный труд как символ абсурда бытия и истории.
Казалось, втащили глыбу Истории на вершину, где, возможно, будет построен Град Человека, а она сорвалась к подножию. И так будет всегда, согласно мифу о Сизифе, обреченном вечно свершать тяжкие труды, возвращаясь к началу. Более того, вместо Града Человека на вершине воздвигается тюрьма.
То, что нам казалось социально-психологической драмой, обретает новые очертания, потому что карпентьеровский реализм — инструмент для изучения не отдельных характеров, а Характера Истории как процесса, человеческий же характер оказывается включенным во всеобъемлющее целое художественной философии истории, где действуют «характеры» народов, цивилизаций, культур. Центральный вопрос, который Карпентьер задает Истории: вечный ли она абсурдный повтор — или движение? Ведет ли куда-нибудь Великая Перемена? Или это Великое Оборотничество и не более? Художественная мысль ближе к финалу наполняется все более грозным смыслом. Вот опять поет раковина-труба, и начинается новый мятеж негров, который разрушает декорации новой монархии. И уже нет Анри Кристофа, новый беспорядок и новое переодевание — и снова оборотничество. Теперь уже сам Ти Ноэль надевает камзол, утащенный из разгромленного дворца, приминает соломенную шляпу на манер бонапартовской треуголки, вместо скипетра вооружается веткой гуаявы, создает свой, какой-то гротескный шалаш-дворец, где подкладывает под себя для удобства во время трапезы… три тома Французской энциклопедии, той самой, которая выковала идеалы «свободы, равенства, братства»… Но вот и «доброе правление» безумного доброго короля Ти Ноэля сметено новым беспорядком — реальной жизнью. И Ти Ноэль прибегает к последнему средству. Как и первый вождь восставших негров Макандаль, он использует чудо своего мифологического сознания, претерпевает воображаемую метаморфозу и бежит из «царства человеческого» в «царство земное» животных, птиц, насекомых, просит гусей, которые живут общиной равных, принять его к себе. Это переодевание в костюм дезертира Истории оказывается верхом гротеска, ведь гусь — символ глупости. Нет, не скрыться человеку от Истории, ее грозных и неясных метаморфоз…
В финале, построенном (как и во всех последующих романах) по принципу музыкальной коды, сходятся в философское обобщение все мотивы и темы романа, выливающиеся (и так будет и впредь!) в формульную итоговую идею. Вновь обретя человеческое обличье, Ти Ноэль достиг высшего прозрения: вопреки всему человек должен возлагать на себя бремя Деяний, он должен снова поднять камень Истории, свалившийся с вершины, и отправиться в путь наверх… Новый Сизиф? Согласие с Камю? Маскарадная маска экзистенциализма? Нет, ведь ответ на роковой вопрос дает не герой Камю, не отчужденный индивидуум, упершийся в «абсурд бытия», а «американский человек», органически соединенный с природой — источником вечной Великой Перемены. Но пока ответ дается на уровне художественности: роман заканчивается ревом карибского циклона, вносящего новый хаос, вновь крушащего установившийся было рабский порядок, и вместе с ним летят в воздух тома Французской энциклопедии…
Итак, роман о революции оказался романом об историческом Времени. Время — вот загадка Истории, вот ее секретный механизм. Как он работает: движение по кругу или вперед? Вечная, так сказать, «горизонталь» или «вертикаль» подъема на вершину? В первом же романе Карпентьер поставил под вопрос экзистенциалистское время, время «по-европейски», а в следующем пустился в путешествие по дебрям Нового Света, чтобы исследовать время «по-американски», каким оно предстает в континентальной сельве — чреве Вечной Метаморфозы. Мы не останавливаемся на романе «Потерянные следы» (1953), не входящем в настоящий сборник, выделим только основное. Композитор, носитель кризисного сознания, живущий в европейском мире утраченных иллюзий о прогрессе цивилизации, попав в сельву, спускается по «шкале» исторических времен от современности к палеолиту и еще глубже — к «первокотлу» жизни. В него он заглядывает, когда видит в какой-то яме то ли человеческие существа, то ли зародыши, еще не отделившиеся от мира растений и животных. «Американская точка зрения» вырабатывается через осознание специфики действительности Нового Света, где сосуществуют пражизнь и каменный век, средневековый мир и буржуазная современность; через изучение метаморфоз времени, его бесконечных и сложнейших структур и движений, его способности застывать, оборачиваться и идти назад — к самым началам: к личинке, ракушке, зародышу, — его способов самопреобразования, прогрессивных и попятных движений, синхронного кружения на месте в великом Беспорядке постоянной Перемены, ведущей от простейшего к сложному. Композитор познает законы времени, услышав, как рождается из плача индейцев дух музыки, единый на всем пути ее истории: от короткого плача-всхлипа до трубы-раковины, а затем — к симфонической поэме «Освобожденный Прометей», которую мечтает написать композитор. Как и Ти Ноэль, он готов взвалить на себя Сизифову глыбу и тащить ее наверх, — правда, если «не случится ему оглохнуть и потерять голос от грохота молота галерного надсмотрщика». Кто он, «галерный надсмотрщик»? Это — время, это его грохот.