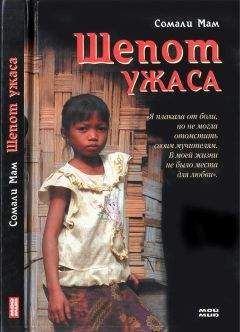Я была чем-то вроде домашней прислуги. В Камбодже такое в порядке вещей. И не важно, купил дедушка меня у Тамана или нет. Раз он дал мне крышу над головой и еду, я обязана служить ему и во всем подчиняться.
Очень быстро я выучила кхмерский достаточно для того, чтобы понимать те оскорбительные слова, которыми меня награждали деревенские, — я была пнонгом, безотцовщиной, да еще и темнокожей уродиной. В этой кхмерской деревне, как и везде, в пнонгах видели жестоких варваров, кое-кто даже считал их людоедами. Конечно, на самом деле это не так: пнонги народ очень честный, они всегда держат слово, отличаются прямотой в отношениях друг с другом и миролюбием. Если, конечно, кхмеры не нападают на них. Пнонги никогда не поднимают руку на своих детей, не обращаются с ними плохо, чего не скажешь о жителях кхмерской деревни, — их обращение с детьми меня ужаснуло.
Кхмеры могут унижать пнонгов, называя их людоедами; мы же, пнонги, считаем кхмеров вероломными, видим в них змей, которые никогда не передвигаются по прямой и обязательно укусят, даже если не голодны.
* * *
Дедушка, хоть и исповедовал ислам, частенько поигрывал. Куда бы он ни направлялся, всегда прихватывал с собой набор маленьких шахмат, обернутый в тряпицу. Он курил сигары со скрученными листьями табака и каждый вечер напивался рисовой водкой. Если на выпивку не хватало, взгляд у него становился тяжелым. Тогда он заставлял меня опускаться на колени и бил длинной и крепкой бамбуковой палкой, которая врезалась в кожу и при каждом ударе оставляла кровавые следы.
Я узнала, что такое страх и повиновение. Дедушка заставлял меня работать на других за деньги. Каждое утро я носила воду нескольким деревенским жителям. Поначалу мне никак не удавалось вскарабкаться по крутому берегу с тяжелыми ведрами, подвешенными на жердь на плечах. Я то и дело скользила и падала, а ведра из оцинкованного железа больно ударяли по ногам. Случалось, из-за ран трудно было ходить.
По вечерам я камнем перемалывала рис в муку, а потом готовила лапшу на ужин. В те дни так делали. Считалось, что если риса много, ты богатый. Нам же еды часто не хватало. Тогда мы с дедушкой рылись в отбросах, которые другие оставляли для свиней.
Днем дедушка часто одалживал меня в качестве рабочей силы. Я трудилась в полях у реки. Когда наступал сезон засухи, мы подновляли маленькие глиняные перегородки, удерживавшие воду на поле, а когда река разливалась, сажали ростки риса.
Иногда из лесов выходили парни и взрослые мужчины — помочь нам с уборкой риса. Они были «красными кхмерами». В то время в глубине страны еще оставались большие отряды бойцов. И хотя у власти находилось правительство, которое поддерживали вьетнамцы, «красные кхмеры» не растворились в воздухе сами собой. Солдаты армии Пол Пота скрывались.
Еще долго возникали перестрелки между солдатами нового правительства и «красными кхмерами». До нас часто доносились пулеметные очереди и разрывы мин, много раз через деревню пробегали бойцы «красных кхмеров».
Когда такое случалось, жители поскорее прятались в домах. Все боялись. Безопаснее было ничего не видеть, не слышать и не знать.
Я была знакома с одним мальчиком, у которого не в порядке было с головой, часто мы вместе трудились в поле. Как-то вечером его послали искать буйвола, несмотря на то что в той стороне стреляли. Мы нашли его тело следующим утром. Голова была отрублена — она откатилась в кусты, росшие вдоль тропинки.
Не знаю, кто сделал это, «красные кхмеры» или солдаты, подчинявшиеся новому правительству, — тогда я и не понимала разницы между ними. В то время по всей стране предпочитали молчать. Никто не говорил об этом ночном убийстве, а также о голоде и концлагерях — обо всем том, что длилось целых четыре года, которые страна пережила под «красными кхмерами». Никто не говорил о том, что теперь нас оккупировали вьетнамцы. Никто ни словом не обмолвился о Пол Поте. Люди как будто вычеркнули все это из своей жизни.
За четыре года камбоджийцы научились не доверять никому: ни друзьям, ни соседям, ни даже своим домочадцам. Чем больше ты раскрываешься перед другими, чем больше рассказываешь о себе, тем опаснее для тебя. Таково отношение камбоджийцев к жизни.
Я никогда не слышала, чтобы родители что-то рассказывали своим детям. От них можно было услышать лишь распоряжения сделать то-то и то-то, а еще получить оплеуху. Многих детей колотили изо дня в день, как меня, даже совсем маленьких. Чаще всего доставалось детям от матерей. Отцы били реже, но если уж до этого доходило, становилось не до шуток — мужчина гораздо сильнее.
* * *
Я страстно желала смерти дедушке, иногда готова была его убить, но мне даже в голову не пришло сбежать от него и поискать дорогу обратно. Та часть моей жизни закончилась — я почему-то не верила, что смогу вернуться к своим. Да, узнав дедушку получше, я возненавидела его. Но все-таки я оставалась перед ним в долгу — хотя он держал меня впроголодь и бил, я все же была его собственностью. Он пенял мне на то, что я, мол, принесла ему несчастье. Жаловался, что с тех пор. как я живу в его доме, дела у него совсем расстроились. И все это из-за меня.
Иногда дедушка надолго уезжал, и я могла вздохнуть свободно. Но чаще он ничего не делал — сидел дома или играл, — а моей обязанностью было приносить деньги. Если я не шла за водой, а сначала мыла посуду, мне доставалось за то, что в доме нет воды. Если же я сначала приносила воду, а потом уже бралась за посуду, он бил меня за грязные тарелки. Сначала я плакала, но потом научилась скрывать свои чувства. Да и на кого мне было надеяться? Считалось само собой разумеющимся, что меня кто-то бьет, ведь я была той самой черной «дикаркой», хуже которой не было никого в деревне.
Я носила воду, но никто и слова доброго мне не сказал. Только сердились, когда я задерживалась или расплескивала воду по дороге. Только одинокая пожилая женщина была добра ко мне. Она все сокрушалась по поводу моих израненных ног и однажды дала мне пару синих резиновых шлепанцев — они стали моей первой обувью. Шлепанцы натирали мне между пальцев и быстро износились до дыр в подошвах — наступи я на колючки, они бы впились мне в ноги. Но все же это была обувь, и для меня она много значила.
Время от времени я задерживалась у той женщины — поговорить. Я спросила ее, почему кхмеры так ужасно относятся к «черным дикарям», почему обвиняют нас в людоедстве. Ведь когда я жила с этими так называемыми «дикарями», меня ни разу не ударили, в то время как здесь, в деревне, детей колотят за малейший проступок. Кто же тогда дикари?
* * *
Помню, как несчастна я была в первый сезон засухи. Огромные охапки рисовых стеблей уже собрали в высокие стога; я стала зарываться в них, прячась от дедушки. Иногда даже ночевала так. В стоге было темно и безопасно — никто меня не видел.
Прошло несколько месяцев, и я обнаружила еще одно место, где можно было укрыться. Мальчик младше меня, с которым мы вместе работали на рисовом поле, обычно ходил обедать в дом школьного учителя; как- то он прихватил с собой и меня. Мам Кхон, деревенский учитель, жил бедно. У них с женой было шестеро своих детей, но они всегда оставляли на ночлег и кормили тех учеников, которые жил слишком далеко, чтобы каждый день возвращаться домой. Часто в дом набивалось десятка два, а то и больше детей. Дом из бамбука стоял на сваях и был маленьким, всего с одной комнатой. Все спали на полу, а в сухой сезон мальчики укладывались внизу, на тюфяки прямо на земле.
Жена Мам Кхона, Пен Нави, делала рисовые лепешки на продажу. Бывало, и меня угощала. Я стала помогать ей с готовкой, а после оставалась и ела вместе с остальными детьми. Пен Нави кормила всех, хотя ее семье иногда не хватало риса и приходилось хлебать рисовый отвар.
Женщина она была добрая, но строгая, резковатая, и любила покомандовать. Она была наполовину китаянкой, с очень светлой кожей — на мой взгляд, настоящая красавица. Однажды она поинтересовалась, почему я не хожу в школу.
Школа в нашей деревне представляла собой площадку под соломенным навесом от дождя. После того как режим «красных кхмеров» был свергнут, Мам Кхон и еще один учитель возобновили занятия. Ученицы носили форму — темно-синие юбки и белые блузки; ребятня собиралась в стайки, отовсюду доносился смех. Что и говорить, мне тоже хотелось присоединиться к ним. Но я даже не надеялась, что дедушка позволит. Так и ответила. При этом в знак уважения назвала Пен Нави тетушкой. На том разговор и закончился. Нам обеим было ясно, что таково право дедушки — он волен не пускать меня в школу.
Тут на пороге появился Мам Кхон, человек добрый, мягкий, но молчаливый. Однажды он нашел меня всю в слезах — я плакала из-за обидных слов, которыми меня обзывали другие дети. Тогда этот высокий человек с решительным лицом и светлым открытым взглядом темных глаз наклонился и обхватил ладонями мою голову. «Никакая ты не дикарка, — сказал он мне. — Ты — дочь моего брата. Брат ушел в Мондулкири с одной женщиной; там у них родился ребенок. И вот я нашел этого ребенка — тебя».