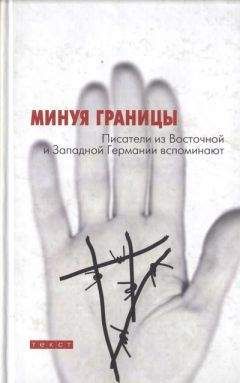Во время осмотра бараков Заксенхаузена десятиклассники извлекали из спортивных сумок банки кока-колы и пакетики с мармеладными мишками, а потом, прячась за музеем, курили «Кэмел» и самокрутки. На обратном пути говорили только о предстоящих летних каникулах: одна девочка собиралась отдыхать с родителями во Флориде, и это вызывало ярую зависть тех, кто ехал на скучную Ривьеру и в скромный Тироль.
А через три года, когда Стена пала, западных и восточных немцев охватила эйфория, к которой я отнеслась скептически: несколько недель, а то и месяцев не могла поверить своим глазам и ушам. Во-первых, потому, что жители Запада еще недавно воротили нос от Восточной Германии — насколько сильным должно было быть презрение, если только две из тридцати западноберлинских семей навещали своих братьев и сестер в ГДР. А во-вторых, потому, что жители Восточной Германии возлагали слишком уж большие надежды на Запад — от того восторга, с каким они бросились ему на шею, мне стало тошно. Не будем забывать и о том, что каждая сторона вела активную пропагандистскую деятельность против государственного строя другой.
Можно сказать, что у меня был нетипичный опыт пересечения границы, но мне и не хотелось, чтобы эта антология отображала усредненную картину — хотелось, наоборот, собрать субъективные впечатления людей, индивидуальные переживания, связанные с Западной и Восточной Германиями, личные утопические представления и их столкновение с действительностью. Как создается история? Из чего складываются и как преподносятся воспоминания? Литература помогает по-новому взглянуть на прошлое (что вовсе не подразумевает ностальгического ревизионизма), познакомиться с разными субъективными точками зрения и таким образом прийти к истине. Еще литература дает то, что не способна показать ни одна статистика: показывает людей, которые хотят и могут поделиться воспоминаниями, готовы рассказать о себе, о другой Германии, о том, где пролегает граница между «здесь» и «там», «мной» и «вами», «тобой» и «нами». К этому я и призвала своих ныне живущих коллег, чей взгляд был мне интересен. При этом антология не должна была стать трибуной только для тех, чьи имена сразу приходят на ум при упоминании темы: для старой гвардии восточногерманских писателей и тех авторов из Западной Германии, которые сочувствовали левым и еще до 1968 года искали себе друзей на Востоке. Их мнения нам уже известны. Гораздо интереснее узнать, какой эту границу видят те, кто еще не открывал публике своего отношения к другой Германии, каковы их впечатления от ее пересечения и какие чувства в них вызывают река, лес, улица, мост, которые так много значили для людей в те времена, когда по ним проходила граница, во времена, от которых сегодня почти не осталось следа.
Голоса, звучащие в хоре антологии, перекликаются. Несмотря на то что авторы писали тексты независимо друг от друга, рассказы обнаруживают внутреннюю связь: речь может идти об одних и тех же местах (таких, как Фридрихштрассе и Йебенштрассе) или об одних и тех же ставших символическими жестах тогдашних политических деятелей. Иногда переклички вызывают смех, а иногда заставляют задуматься.
Мне жаль, что голоса некоторых писателей так и не прозвучали. Буду надеяться, что когда-нибудь это все-таки произойдет. В ответ на мое приглашение участвовать в создании этой антологии с Запада часто приходил отказ, мотивированный нехваткой личного опыта. Как же мне порой хотелось опубликовать эти удивительные признания, которые звучат вдвойне странно, если вспомнить, что речь идет о просьбе создать литературное произведение! Сразу возникает множество вопросов: кому принадлежит повествование? Разве только мужчина может рассказать мужскую историю? Разве о еврее может писать только еврей? А о Восточной Германии только бывший житель ГДР? Разве только немцам разрешено писать о немецкой истории, разделении Германии и границе? Неужели только жертва может писать о жертвах? Разве писатели рассказывают только о тех временах, очевидцами которых им довелось быть? Кто может, кто должен и кому разрешено писать? И если кому-то не разрешено, то кто накладывает этот запрет? Какова наша миссия, стоят ли перед искусством и литературой нравственные и эстетические задачи? И как вяжется с ними то упрямство, с которым некоторые отстаивают свое право на молчание, когда дело касается самого личного.
Мне трудно представить человека, который застал падение Стены в сознательном возрасте и при этом не мог бы рассказать о границе из-за нехватки личного опыта. Еще труднее представить писателя, которого отсутствие такого опыта не навело бы на определенные мысли.
В этой книге друг с другом соседствуют очень разные произведения. В их сочетании, на стыке, открываются территории, по которым проходит граница, — территории, разделенные и в то же время имеющие точки соприкосновения. Путь через повествование — путь через границу.
Виола Роггенкамп
Я ПРОЕДУ!
© Перевод Д. Паршикова
Мы ехали из Освенцима.
«Разве так начинают рассказ?»
Но так оно и было, а вся история оказалась даже отчасти забавной. Ведь моя мама утверждала, будто видит в темноте лучше меня: «В конце концов, это же моя машина, за руль своей ты меня никогда не пускаешь, и теперь поведу я!»
Именно поэтому мы, возвращаясь из Польши через ГДР, сами не заметили, как отклонились от трассы на Гамбург.
«Ты заснула. Поэтому так получилось. Ты все проспала».
Я? Заснула? Когда она за рулем? Но дорога убаюкивала. Может, я и задремала. Едешь-едешь, сидя в одном положении, скорость за сотню, а кажется, будто стоишь на месте, пока за окном мелькает ГДР.
«Скучнейшая страна на свете».
Это уже не моя мама, а Фолькер Браун, поэт из ГДР.
Указателя на Гамбург не было нигде.
«Они делают вид, будто нас вообще не существует».
Мир обрывался в Гудове (Царентине). В Гудове находилась первая западная заправка, сразу же за границей. Но чем был известен Гудов? Говорили — Гудов, подразумевали — ГДР.
Водительские права мама получила в шестьдесят пять, вскоре после этого умер отец, но это никак не связано. А потом мы поехали в Освенцим. Во времена нацизма мои родители жили в Польше. Отец — немец, мелкий торговый служащий в Кракове — укрывал свою возлюбленную еврейку, мою будущую мать, вместе с ее матерью и от нацистов, и от поляков. После его смерти мама решила снова съездить в Польшу.
«Это мой долг перед ним».
Собственно, это он хотел поехать с нею в Польшу. Отец поддерживал отношения с друзьями из Сопротивления, но мама все время откладывала поездку. Теперь вместе с ней отправилась я.
«Нам придется ехать через ГДР».
Мама ненавидела ГДР. Для нее ГДР была воплощением всего того, что она привыкла ненавидеть в Германии.
«Думаешь, я боюсь их? За кого ты меня принимаешь? Я проеду!»
Разумеется, мы взяли ее машину. Большой японский лимузин.
— Он тоже на нем ездил, — сказала мама и ласково похлопала по крылу автомобиля.
Отец неохотно давал ей машину, предпочитал вообще не давать.
«Что ты такое говоришь? Он всегда радовался, что я села за руль».
Итак, мы двинулись в Польшу, побывали там, а на обратном пути в Щецине, у самой границы, купили продуктов в дорогу.
— У них ты меня на автостоянку не затащишь! Свою гэдээровскую отраву пусть сами едят. Им нужна только моя валюта.
Перед границей мы залили полный бак.
— Ни за что не пущу гэдээровский бензин в мой роскошный двигатель. А этого нам хватит до Гамбурга.
Польскому заправщику мы отдали последние злотые, благо у нас оставалась в запасе толстая пачка купюр, после чего он вымыл все стекла, а также фары и оба номерных знака.
В Польше маме пришлось трудно. В Польше я сидела за рулем. Она вообще отдала мне машину, но перед границей с ГДР заявила:
— А теперь поведу я.
Темнело, и я медлила. Она постучала по крыше автомобиля красными ногтями.
— Ну, давай уже. Рулила десять дней подряд. Пора тебе отдохнуть, к тому же в темноте я вижу лучше.
Я отдала ей ключи от машины. Она уселась за руль, подложив под себя подушку, скинула лодочки и сунула ноги в туфли на плоском каблуке, сдвинула сиденье вперед, отрегулировала боковое зеркало, подкрасила губы, глядясь в зеркало заднего вида, пристегнулась, и мы тронулись. Поляк помахал нам вслед рукой.
Она заметила это и сказала:
— Все-таки в Польше было много хорошего, тебе не кажется?
Ужасного там тоже было много. Картины, возникавшие в памяти матери, переполняли ее и вытесняли настоящее. Я шла с ней рядом, но она была где-то далеко. Потом вдруг замечала меня и пугалась моего присутствия — откуда бы мне там взяться? А когда осознавала несоответствие во времени и душа ее вырывалась из плена прошлого, лицо у нее начинало подергиваться, и она молча, словно с зажатым рукой ртом, качала головой и плакала. Приходя в себя, извинялась, что не в состоянии ничего объяснить.