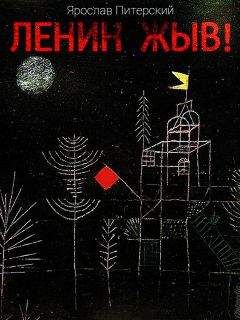— А Ленина видел, — многозначительно покачал пальцем Иван Алексеевич. Да. Как меня. Так и сказал: Я, Ваня, Ленина, как тебя видел.
— Ну, да ладно, видел — не видел. Пожил свое раб Божий, и успокоился, — подвела итог тетя Галя.
11.
Прошло несколько лет. Бабушка получила однокомнатную квартиру, потом родители затеяли сложный обмен, и мы в конце концов переехали в Москву. Квартира была полна стенных шкафов, книг и старых чемоданов. В одном из них лежали фотоальбомы с фронтовыми фотографиями отца. А еще помню потертый кожаный портфель с иконками, платиновыми полтинниками и сохранившимися семейными регалиями и драгоценностями. Пожелтевшие дореволюционные фотографии женщин в длинных платьях и мужчин в сюртуках — все это вызывало у меня живой интерес исследователя.
Однажды во время одной из археологических сессий, я наткнулся на давно забытую папку с тесемками, и вспомнил высокого старика из коммуналки.
В папке лежали тетрадные листочки в линеечку, исписанные выцветшими чернилами. Содержание первых страниц меня разочаровало — не было там ни государственных тайн, ни сокровищ. Письма к какой-то Елене Николаевне. Я наугад пролистал несколько страниц — эх, скучные рассуждения о воле и свободе, — и засунул папку на место.
На следующий день я невзначай спросил у бабушки, помнит ли она покойного соседа.
— А почему ты вдруг о нем вспомнил? — Бабушка подозрительно посмотрела на меня.
— Да так, просто, — глаза у меня начали бегать. Вскоре пришлось покаяться.
— Как ты мог! Как тебе только не стыдно шарить по чужим вещам. Это же безнравственно, почти что воровство!
— Я помню, ты мне тогда сказала, что это документы, а оказалось — письма.
— Не твоего ума дело! И не смей больше копаться в моих документах, а тем более рассказывать дружкам о своих находках.
Ночью за стенкой бубнили голоса. Я жадно прислушивался, приложив ухо к двери.
— Не дай Бог, — сердилась мама. — Зачем тебе это? Такой риск. Надо все немедленно выкинуть или сжечь.
— Я обещала человеку перед смертью, — голос бабушки был холоден.
— Да вы понимаете, чем это может для всех нас обернуться? — наступал отец. — Мало ли что, он проболтается в школе, кому-нибудь покажет, всплывет вся эта история…
— Пока я жива, рукопись уничтожить не дам. Умру — делайте, что хотите.
Надо ли говорить, что на следующий день после школы, пока родителей не было, я обшарил весь дом. Каждый уголок, каждая щелочка были многократно исследованы. Все было напрасно — коричневая папка исчезла. Лишь спустя много лет я узнал, что она была отвезена на хранение к дальней родственнице.
А эпизод этот вскоре выветрился из памяти — в детстве все быстро забывается. Тем более, что вечером Пашка из нашего класса раздобыл несколько боевых патронов, и мы с суеверным ужасом бросали их в костер, разведенный в рощице около железной дороги.
12.
Глядя в прошлое, я удивляюсь, насколько неравномерно течет время. Пять лет, прошедшие между смертью Александра Валериановича и случайной находкой в бабушкином шкафу, показались мне, подростку, вечностью. Только теперь я понимаю, что для бабушки эти годы пролетели, как несколько недель.
Пока мы взрослеем, время постепенно ускоряется — как вагон метро. С достижением зрелости оно движется будто бы с постоянной скоростью, а потом замедляется и незаметно начинает тормозить, пока не подъедет к конечной станции, той, где просят освободить вагоны.
Через двенадцать лет после описанных событий мое время впервые умерило свой бег, а бабушкино почти замерло. Она начала путаться в окружении и событиях, причудливо переносясь то в собственную юность, то в послевоенные годы. Лишь изредка, как правило по утрам, к ней возвращалось чувство реальности.
Мама ожидала неизбежного со дня на день. Поэтому, когда мне предстояла двухмесячная командировка в Ленинград, семейный совет постановил, что перед отъездом я должен проститься с бабушкой.
Бабушка еще могла передвигаться сама.
Она сидела в старом кресле, закутавшись в платок, и смотрела на окна соседних домов. Моего появления в комнате она не заметила.
— Привет, ба, — кашлянул я. — Как ты себя чувствуешь?
— Кто? А, это ты, — вздрогнула старушка. — Ну что же, хорошо, что пришел. Я тебя ждала.
— Да, я уезжаю в командировку, пришел попрощаться.
— Ты очень изменился, Петя.
— Бабушка, я не Петя, — обреченно вздохнул я. Эти провалы памяти в последнее время сильно нервировали окружающих.
— Не обманывай меня, Петя. Дай Бог памяти, когда я тебя видела в последний раз? Ну да, у Корсаковых дома. В Новороссийске. Еще до того, как тебя убили.
— Бабушка, я не Петя. Я — Саша. Твой внук.
— Господи, Сашенька! — всплеснула бабушка руками. — Это ты?
— Ну, конечно я.
— Я опять все спутала. Надо же, а такой маленький был. Когда ты вырос, не помню. Это из-за очков. Да-да, я просто плохо вижу. Мартышка к старости слаба глазами стала. Куда я их дела?
— Вот они, — я дал ей в руки зеленый пластмассовый футляр.
— Спасибо. Ты всегда находил мои очки.
— Слушай, бабуля, — я воспользовался временным просветлением сознания. — Я, собственно, на минутку. Вечером уезжаю в Ленинград, пришел попрощаться.
— Хорошо, что забежал, может быть, больше не увидимся, — покачала она головой.
— Да о чем ты говоришь.
— Подожди, Петя, ты в Ленинград едешь? Тут ко мне заходил Александр Валерианович, помнишь такого?
— Помню. А что значит — заходил? — Мороз пробежал по спине, и я временно согласился с тем, что снова стал Петей.
— Ну… Не знаю, как это тебе объяснить. Заходил, и все тут. Мне так неловко перед ним, я ведь никого не нашла. Хотя видит Бог, несколько раз пыталась. Никого не осталось, все в блокаду умерли. Я боюсь, что они ее сожгут, эту рукопись. Или Сашенька в школе разболтает, мало ли что.
— Бабушка, я давно уже закончил школу.
— Петенька, возьми ее. Под кроватью, в портфеле. Она у Вики хранилась, до самой ее смерти. В Петербурге попробуй разыскать родственников, в папке вложена страничка с фамилиями и адресами.
— Хорошо, — забытая папка снова оказалась у меня в руках.
— Вот спасибо тебе. Если он опять придет, так и скажу — у Пети. А теперь — иди. Я очень устала.
— Пока.
Я был несказанно рад вырваться из комнаты.
А на улице была ранняя весна. Снег уже почти растаял, пахло мокрой землей и ручьями.
— Чертова бессмысленная жизнь, — выругался я и закурил.
13.
Мой поезд уходил вечером. Я кое-как собрал вещи и бумаги, засунул рукопись в чемодан и остаток времени провел в недавно выстроенном универмаге у трех вокзалов — покупал подарки родственникам, у которых собирался остановиться.
До рукописи я добрался поздно ночью, на верхней полке купе. Тускло мерцал ночничок, стучали колеса, подо мной душевно похрапывал мужик в физкультурном костюме.
Разобрать почерк покойного Александра Валериановича было несложно — писал он каллиграфически, лишь изредка перечеркивая отдельные слова. Конечно же, старик писал мемуары, но в своеобразном стиле — это были письма его возлюбленной, которую он потерял еще в тридцатые годы, попав в лагеря. Одного я не мог понять — что уж было такого крамольного в этих записках? Упоминание о лагерях? Видимо, мне трудно будет до конца осознать страх, въевшийся в старшие поколения.
Я пролистал несколько страниц, а потом по-настоящему вчитался в аккуратные строчки, написанные в крохотной комнатке многолюдной коммунальной квартиры моего детства.
* * *
… Я делаю вид, что живу в крохотной, выцветшей комнатушке на третьем этаже дома красного кирпича, архитектурой и мрачным видом своим напоминающего окраины Берлина, который мне удалось повидать в детстве. Да это и неудивительно — дом наш построен в конце войны военнопленными, по проекту немецкого же архитектора. Чуть к северу, за пустырем, у самой железной дороги — их заброшенное кладбище.
Окошко мое расположено в нише стены, и видна из него лишь кирпичная кладка. Если же исхитриться и устроиться повыше на мещанской кровати с позолоченными шишечками, становится виден уголок дворика с рассохшейся детской песочницей и кладовая дверь продуктового магазина. Когда мне становится скучно, я могу часами смотреть на то, как во дворе играют мальчишки, а около магазина ошиваются грузчики в грязных фартуках.
Забавно: у тех и других сложнейшая социальная жизнь — борьба за первенство, враждующие группировки, зависть, предательство, мелкое воровство, расплата, конфликты и измены, — все тот же, до боли знакомый нам человеческий муравейник. История человеческого рода повторяется с навязчивой однообразностью.