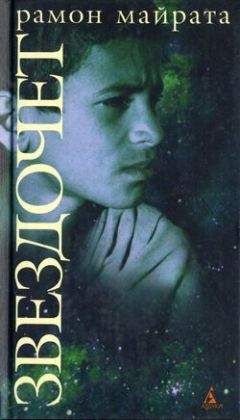— Приходи. Я дам тебе работу.
Почему Абрахам Хильда это делает? Почему хочет включить гитариста, играющего фламенко, почти ребенка, в еврейский оркестр? Пожалуй, потому, что в этот момент, когда Европа, кажется, качается на краю пропасти, подталкиваемая худшими из человеческих инстинктов, и цивилизация грозит превратиться в гору обломков, живые пальцы маленького гитариста пробегают по струнам сломанной гитары с проворством ящерок, снующих между руин. И дирижер говорит себе, что, пока дар мудрости может скрываться в теле обычного беспризорника, есть надежда, что разрушенный мир возродится, как приживается семечко на поле, выжженном боем.
— У тебя большое будущее, — говорит он, когда гитара замолкает.
Мальчик смотрит на него удивленно. Он думает не о работе, а только о слове «будущее». С тех пор как он бросил школу или, лучше сказать, школа бросила его, он чувствует себя свободным, но и без какой-либо надежды, и сейчас впервые слышит, что у него есть будущее. Обычно ему говорят противоположное — что он превратится в отъявленного босяка, лишенного перспектив. Но этот толстый потливый господин с иностранным акцентом кажется очень серьезным и порядочным, он смотрит на Звездочета в упор, с сочувствием и второй раз повторяет, что у того необыкновенное будущее, добавляя к своим словам несколько купюр.
— Купи себе новую гитару и костюм, — говорит дирижер и, видя его нерешительность, спрашивает: — Тебя интересует работа?
Звездочет никогда не задавался этим вопросом. Само собой разумелось, что ему всегда нужна работа, и поэтому он играл в любом месте. Но спрошенный вот так, будто бы с правом выбирать и выражать свое мнение, он не может выговорить ни да ни нет.
— Придешь?
— Наверно, да, — бормочет Звездочет, укладывая свою сломанную гитару в футляр и закрывая крышку с такой осторожностью, будто подворачивает простыню у лица умирающего.
Почти два месяца медлил Звездочет с выполнением своего обещания — пока ему хватало денег, которые он тратил на еду. Но однажды ночью голод долго не давал ему уснуть. Каждый раз, как только веки его закрывались, ему виделась некая дверь, из-за которой доносится запах рыбы, плавающей в шафрановом соусе с луком. Внезапно дверь распахивалась — и он просыпался. И так всю ночь.
Он встал около полудня. В этот час просторный дом наполнен грубыми голосами грузчиков с соседней набережной, их ругательства преследуют его до самой кухни, резонируя в длинном коридоре, оклеенном отцовскими афишами. На одной из них Великий Оливарес показывает зрителям свои раскрытые ладони. Две ладони, которые так очаровывали Звездочета с самого раннего детства.
Из-за спазмов в желудке он не замечает каких-то перемен в холодильном шкафу. Там только мышонок, которого отец окрестил Всеобщим Другом, да длинная вереница тараканов, не поддающихся индивидуализации, а потому лишенных имен. Они напоминают ему парады и патриотические шествия, которые без конца организуются в городе, где оглушенный народ умирает от голода. Зато сквозь прореху в металлической сетке, отгораживающей холодильный шкаф от улицы, ему открывается впечатляющее зрелище. Рядом со Всеобщим Другом, который топорщит усики, нюхая улицу, его взгляду открываются девять итальянских трансатлантических кораблей, пришвартовавшихся у набережной Маркиза де Комильяса, и горстка моряков в тельняшках и с татуировками на руках, которые, поднимаясь в лебедках, подкрашивают белые корпуса, подернутые рябью солнечных бликов.
Несмотря на поздний час, отец еще не проснулся. В этом нет ничего удивительного, ведь он прожигает ночь за ночью с отчаянием раненого зверя, играя до зари в карты то в усадьбе «Росалес», то в салоне «Модерн», то в водолечебнице Лас-Пальмас, — каждый раз заново убеждаясь, что с тех пор, как он потерял на войне кисть руки, фортуна от него отвернулась.
Звездочет на цыпочках проникает в спальню отца с намерением позаимствовать у него единственный костюм, оставшийся от его артистического гардероба. Это фрак, черный как крыло ворона. Времена нелегкие, и отец вынужден был всю остальную свою одежду отдать в залог.
Звездочета мучает дилемма. После неудачи с завтраком он решился-таки наведаться в отель «Атлантика». Но не может же он предстать там в каком попало виде. Будь у него полный желудок — другое дело: никакой костюм не может улучшить вид сытого человека. Но если ты чувствуешь, что тело твое легко, как пух одуванчика, то должен, как говорится, придать ему некий вес или по крайней мере достойную осанку.
Прежде чем открыть шкаф, он обращает внимание на колоду карт, рассыпанную между столиком и прикроватным ковриком. Дама червей смотрит на него влажным взглядом, окруженная разбросанными в беспорядке трефами, бубнами и пиками. С тех пор как Великий Оливарес потерял руку, он не только перестал выступать перед публикой, но и, репетируя в одиночестве дома, способен лишь довести себя до отчаяния. Его единственная кисть лежит сейчас, бледная, почти прозрачная, на белой простыне. Лицо его тоже холодно и безжизненно. Если бы легкое дыхание не шевелило волоски в его носу, Звездочет подумал бы, что тот умер.
Ему хочется разбудить отца и спросить с тем же выражением лица, что у дамы червей: когда же ты снова покажешь мне фокус? Но он никогда не решится начать такой разговор с отцом, потому что боится ранить его душу. Он понимает: однорукий фокусник — это так же трагично, как глухой гитарист или слепой художник.
Ему хочется узнать, кто был прав на той войне, что отняла у отца руку. Сеньор Ромеро Сальвадор, его бывший учитель музыки, обладающий способностью объяснять необъяснимое, уверяет, что на войне никто не бывает прав. Он сказал это в то самое утро, когда закончилась война, два месяца тому назад.
— Я приведу тебе такое сравнение, — говорит он, а глаза его пусты, как бы уже и не живые. — Помнишь, как сбежал из цирка леопард?
— Да.
— Помнишь, как он забежал в кафе на площади и разорвал когтями нескольких клиентов, которые пили там этот суррогатный кофе (никак я к нему не привыкну)? Потом полицейские его окружили и расстреляли из своих карабинов. Был ли зверь виноват? Он просто вел себя, как и положено зверю. Если мы позволяем вырваться на свободу зверю, сидящему внутри нас, никто из нас уже не бывает прав.
— И никогда уже больше не будет прав?
— Может, будет, если снова запрет на замок зверя.
— Как это?
— Если установит справедливые законы, не допускающие войн.
— Какие такие законы?
— Законы, которые позволяют всем людям уважать друг друга.
— Но этого нет в Испании, а ведь война уже кончилась.
— Да, мальчик, этого нет. Есть только фантом. Как рука твоего отца, которой тоже нет, но которой, я уверен, он в своем воображении делает фокусы — был у него такой дар, хотя сейчас уже, наверное, война отняла его навсегда.
…Руки Звездочета тоже исчезают, когда он примеряет фрак со слишком длинными для него рукавами. Фалды свисают ниже щиколоток. Но он не чувствует себя смешным.
«Если у меня и правда есть будущее, — размышляет он, — я буду расти, пока мое тело не заполнит как следует этот фрак. Это вопрос времени».
Фрак для него — парадный мундир артиста.
По пути в отель «Атлантика» он во всей красе видит девять итальянских кораблей, таких внушительных размеров, что загораживают море. Они напоминают огромные сияющие здания, вставшие на якорь прямо на площади. Он читает их названия, будто осваивает вывески новых и незнакомых улиц: «Сицилия», «Пьемонт», «Лигурия», «Умбрия», «Калабрия», «Тоскана», «Сардиния», «Лацио», «Ломбардия». С борта одного из них льются звуки аккордеона. С другого, далекого, отвечает гармонь. Едва он слышит музыку, как его охватывает ужасная тревога. Где раздобыть гитару? Не станешь ведь играть в отеле «Атлантика» на сломанном инструменте.
В кладовке любой таверны Кадиса хранится гитара, созревая как вино в полутьме среди бочек с хересом. В какой-нибудь спокойный денек, когда горстка клиентов, сидя в холодке, изучает бесконечный морской горизонт, не составило бы труда одолжить ее на пару часов, расплатившись ночью несколькими аккордами, оживляющими заведение. Но сегодня хозяева кабаков слишком заняты, чтоб оказывать ему любезность. Их лица раскраснелись, как разломанные гранаты, над белыми блузами, и расчеты, записанные мелом на стойках, клубятся хаосом иероглифов. Итальянская матросня размахивает руками, стремясь объясниться с портовой шушерой, а вино из Хереса вспыхивает старым золотом меж белых зубов и горячих юных губ.
Вид улицы необычен. Кадис — сплошной поток, в котором смешиваются уходящие из города войска, двигающиеся им навстречу раненые и беженцы, штрафные батальоны, прибывающие на строительство новых фортификационных сооружений на побережье, подростки в униформе, марширующие под барабаны и трубы, полицейские, надзирающие за дорогой: объявлено о приезде важной персоны на проводы домой итальянских добровольцев.