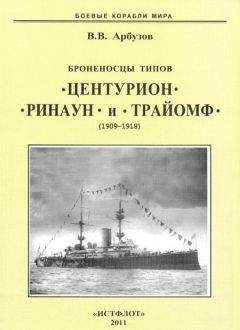— Сполна смертный приговор заслужил, фашист, — загудел круглым голосом Твердохлебов. — Придавить его — и меньше ворья вонючего на земле будет. На кого он лапу поднял? На нас, стало быть, на фронтовиков? Всю войну в ординарцах кантовался…
— А ты как соображаешь по этому делу, Эльдар? — сухо спросил Кирюшкин.
Эльдар выдавил слабым, перегоревшим шепотом:
— Безумие. Разве вы точно уверены, что пожар Лесик устроил? А если не он? И вы что — избить или укокошить его хотите? А если не он? Господи, дай мне остановиться… — тридцатый стих двадцать третьей главы Корана, — забормотал он. — Аркадий, я, наверно, непозволительно глуп, но у нас нет доказательств, что это Лесик. Нет-нет, Гришуня. Нет-нет, Миша, — заторопился он, отрицательно мотая по плечам волосами. — Я не хочу, я против всякой крови…
— Вот санинструктор гороховый, — выругался Логачев, втискивая кулаки в колени. — На войне только и знал, что раны перевязывал да, видать, причитал по убитым, как баба.
— Нет, я санитаром в полевом госпитале был, а по причине комплекции санинструктором не взяли, — возразил Эльдар. — И в полевом насмотрелся крови и гноя, до сих пор тошнит. Нет, Гриша, как можно примирить человека со смертью? Ты, Миша, сказал «смертный приговор»? За что? А если не он?
— Ты, видать, врагом моим будешь, чую по твоей трепотне, монах чертов, философ куриный! Не товарищ ты мне после твоих соплей и разных антимоний.
— А так? — загорячился Эльдар. — Я с тобой говорю не за тем, чтобы философствовать и пререкаться! Знаешь ли ты, Гриша, что от того, что записано в Книге Судеб, никуда не уйдешь? Ты разве закупоренный войной? Хочешь убивать и калечить? После войны?
«Все вы закупоренные малые», — вспомнил Александр слова Нинель.
— Заткнись, трепло философское! — крикнул Логачев, и скопившаяся влага задрожала на его веках. — А то я тебя враз пошлю подальше на ухо, и будь здоров — не знакомы в трамвае, не соседи! А то еще и схлопочешь по очкам, у меня руки сейчас чешутся!.. Ты чего же предлагаешь, умник такой? Утереться?
Эльдар потрогал дужку очков, сказал с печальной укоризной:
— Зачем, Гриша, воздвигнута между нами стена?.. Послушай, Гриша, зачем ты на меня сердишься? Ты не хочешь понять…
— Молчи, говорю! — обрезал Логачев. — Пока не разошлись с тобой, как в поле трактора! Война тебя не укусила как следовает. А я весь искусанный, потому никакой сволочи пощады не дам. Всякая сволочь — тыловой фашист, понял, нет? Потому морды буду бить вдрызг! Своих кулаков не хватит, вон Миша поможет — у него пудовые, смертельные!
— Да что же это? Убийцы разве мы? Нас и так бандой называют! Аркадий, что это? — вскричал Эльдар и, как за помощью, всем худощавым телом потянулся к Кирюшкину.
— Тих-хо, кончай базар! — властно поднял голос Кирюшкин, и сразу в комнате упала тишина. — Гришуне и Эльдару — помолчать. Никакие лишние слова здесь не помогут и никого не спасут. Смысл в продуманном действии, а не в озлоблении друг против друга. Если черная кошка пробегает между нами — сверните ей шею. Что касается того, Эльдарчик, что кто-то называет нас не голубиным братством, а бандой, то инкриминировать… обвинить нас ни в чем невозможно. Ясно? Никто не пойман за руку, никто ни разу не имел дело с милицейскими. Промысел голубиный… ловля и продажа голубей по Уголовному кодексу не наказуемы, все статьи коего мне известны. — Он сделал жест головой вбок, указывая на книжные шкафы, где за стеклом проступали корешки книг. — Кроме того, други мои, очень неплохо, что у нас два праведника, есть кому каяться… Пожалуй, ни в одной так называемой банде двух праведников нет. Я пребываю в надежде…
Кирюшкин зло усмехнулся, эта усмешка изменила его лицо властно-непреклонным выражением самоуверенной силы, что, наверное, подчиняла ему людей. Он поворотом пальцев задавил папиросу в пепельнице, отпил глоток из своего стакана, этим показывая остальным, что выпить можно, и взглянул на Александра. Тот наполнил стакан пивом из отдельно поставленной перед ним бутылки, с избыточным вниманием наблюдая, как кипит и лопается на стекле пышная пена. «Как понимать его усмешку? — подумал он. — И что она значит?»
— А что думаешь ты, Александр? Именно ты…
«Он что — проверяет сейчас меня? Выделяет из всех?»
— А имеет ли это значение? — сказал Александр тише и равнодушнее, чем надо было сказать после слов «именно ты». — Я пока еще не состою в вашем братстве. И мне на болтовню наплевать.
Это была минута, когда все за столом разом повернулись к Александру и замерли, с подозрением ощупывая его лицо отчужденными взглядами, спрашивающими его не без угрозы: тогда кто ты?
— Братья-а, закусим зубами палец удивления, — услышал он жаркой шершавой ниточкой протянутый полушепот Эльдара.
— Мне очень хотелось бы знать твое мнение, Саша, — повторил так же спокойно Кирюшкин, точно бы не придавая значения словам Александра, и змеиная неподвижность, как тогда на пожаре, появилась в его задымленных дерзостью глазах. — Что касается братства, то это к слову. У нас не масонская ложа, посвящения нет. О масонах, если хочешь, могу дать тебе книжонку, в библиотеке отца осталась, довольно любопытно. В наше замоскворецкое братство пропуск простой. Парень должен быть из Замоскворечья и пройти войну не как бобик, а как мужик. Исключение — Эльдар, воевавший санитаром. Тыловые бобики, замаскированные власовские мокрицы и всякая разжиревшая за войну мразь — наши враги. И запомни: на все разговоры о банде Кирюшкина мне начхать, потому что с точки зрения уголовной — мы чисты, комар носа не подточит. Промысел голубиный — не преступление, в кодексе никакой статьи нет. Теперь вот что, Саша, я тебя силой к нам не тащу. Если тебе с нами не в дуду, то давай расстанемся как солдаты. Не сошлись — уходи. Понятно: язык за зубами ты держать умеешь. Только сейчас уходи. Чтоб не мараться тебе с голубятниками. Предупреждаю тебя. У нас все-таки серьезные дела начинаются…
Кирюшкин произнес это и опять зло усмехнулся, но усмешка злости на его лице была как бы связана не с тем, что он говорил, а отражала что-то иное, невысказанное, о чем думал он и что скрывал сейчас.
— Так что, Саша?
Если бы Александр с независимым видом встал в эту минуту, помахал ручкой ернически, говоря: «Ну, пока, братцы», — то явно совершил бы нечто такое, что походило бы на попрание фронтового товарищества, на некое предательство, даже тень мысли о котором ему всегда была до тошноты отвратительной. И Александр сказал, подавляя раздражение:
— Не увязну. Расставаться бегством не имею привычки. Не усвоил пока.
— А то рвани из банды, чтоб пятки в задницу влипали, дай стометровку, — искривленным издевкой голосом прогудел Твердохлебов. — Не нравимся, — отсекайся к едреной матери. Покуда не поздно…
— Закупорь ротик, Миша, хоть ты и боксер, но нам не страшен даже серый волк с боксерскими бицепсами, — сказал Александр с ответной издевкой, вспыхивая и боясь приступа вспышки, о чем позже вспоминал с мерзким чувством к самому себе.
— Прекратить перебранку! Не время! — скомандовал, не повышая голоса, Кирюшкин. — Так как же ты все-таки, Александр?
— Я повторяю: никуда уходить у меня желания нет…
Александр не успел договорить — в передней судорожно булькнул, взвизгнул звонок, и все с напряженной недоверчивостью быстро повернули лица к двери, не понимая, кто бы это еще должен сейчас прийти. Кирюшкин решительно встал, сделал рукой успокаивающий жест, сказал: «Пока сидеть всем тихо», — и, распрямляя плечи, твердо вышел из комнаты в переднюю. Все смотрели на отдернутую им над дверью занавеску, покачивающуюся темными волнами, это колебание вызывало почему-то чувство неспокойствия.
— А-а, шут гороховый, проходи, проходи! — послышался голос Кирюшкина из передней. — Один? Ну а если не один, то приглашай остальных, как раз на ужин, водочки выпьем, поговорим по душам, если до нее доберемся. Ах ты один? Тоже неплохо, проходи, будешь драгоценным гостем, а то мы по тебе, Гоша, соскучились, давно не видели твою ушастенькую мордочку, проходи без всякого стеснения. Как раз вспоминали банду батьки Кныша! Входи и здоровайся с обществом!
— Ты не один разве?
— Проходи, проходи!
И Кирюшкин втолкнул в комнату Гошку Малышева по кличке Летучая мышь, хилого паренька в кургузом, не по росту, полосатом, должно быть немецком, пиджаке; он покачивался на кривых ножках, обтянутых помятыми брючками, похожий на недоразвитого подростка голодных военных лет, с торчащими, как у летучей мыши, ушами; круглые оловянные глаза забегали по лицам сидящих за столом, чудилось, дрожали от страха, от совсем уже непредвиденной встречи со всеми, с кем, вероятно, не рассчитывал сейчас встретиться. По узкому книзу зеленому лицу, постоянно подвижному, танцующему, а теперь скользкому, мигом вспотевшему, можно было видеть, что он нетрезв и крайне растерян.