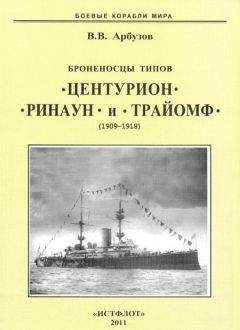— Не знаю… не был я… если бы чего… руку ведь чуть не сломал… за что меня… Не знаю ничего… не виноватый я…
— Где голуби? — холодно повторил Кирюшкин.
— Да разве я их видел? Не видел я ничего, матерью своей клянусь, не видел я…
— Ну, мать свою ты, пожалуй, недорого ценишь, деньги ворованные Лесику несешь, а не в дом, — веско сказал Кирюшкин. — Значит, ничего не знаешь, ничего не видел, ни в чем не виноват. Миша, — опять позвал он с притворной усталостью. — Поздоровайся еще раз, поприветствуй чистосердечно нашего гостя, от любезности удержаться невозможно, до чего приятный, интеллигентный человек и любящий сын. Дай ручку, Гошенька, с тобой хотят еще раз поздороваться.
— Нет, падло! Не тронь! Не дам руку сломать!.. — Малышев суматошно рванулся на стуле, то ли готовый бежать куда-то, то ли сопротивляться в буйном припадке. Он не кричал, а вопил визжащим голосом, он метался в бессилии на стуле, а Кирюшкин смотрел на него безжалостно — непроницаемыми глазами и не прерывал его вопль.
— Нет моей вины, Аркаша!.. Не воровал я голубей! За что меня?.. Не я, не я! В чем я виноват?
— Ты, Гоша, виноват уж тем, что живешь на свете. Смотреть на тебя рвотно. Спрашиваю в последний раз: где голуби?
— Не знаю, не знаю, Аркаша, миленький!..
— Значит, не знаешь? Что ж, и мое терпение лопнуло. Если ты не обтесался после моих вопросов, то глуп и уж вовсе дубина. За твою судьбу я не ручаюсь. То, что Лесик устроил поджог, только жопозвону не ясно. Значит, ты не знаешь, что с голубями?
— Нет, Аркашенька, не виноват я… За что терзаешь? Тигр — ты, а я кто? Мошка… Убей, не виноват, не трогал я голубей, не я…
— Какой я тебе на ухо Аркашенька? Какой еще тигр? Не корячься, не ползай на брюхе, скалопендра. Кто же тогда трогал голубей?
— Аркашенька, не я, миленький…
— А кто?
— Не я, не я…
— Кто, спрашиваю, — черт, сатана, дьявол? Или лесиковская шпана? И ты в том числе, мелкий карманник, который по зернышку носит в мошну Лесика! Ну? Больше вопросов не жди. Устал я от тебя, Летучая мышь. Будешь сейчас здороваться с Мишей, чтоб твоя золотая ручка ловчее на Тишинке чужие карманы проверяла! Все дошло? Походишь в гипсике, как в госпитале. Полезно.
Малышев заплакал.
— Аркашенька… не надо… не ломай мне руку… не приказывай Мише… Калекой ведь сделаешь… Что я тогда?..
— Меньше воровать станешь. И вспомнишь, кто голубятню поджигал и где голуби.
Малышев закинул голову, глаза его обморочно закатились, рот приоткрылся, он со стоном всасывал в себя воздух, как при удушье.
— Не жить мне, видать… убьет Лесик… — выдыхал он плачущим шепотом. — Такой разговор слышал вчерась. В Верхушкове… А не жег я ничего, не виноват… не взял меня Лесик, не верит он мне… В Верхушкове он у дядька своего два дня проживает. А голуби там, в сарае. Акромя ничего мне не известно. Послал он к тебе с бумажкой и насчет портсигара. Отдай ты ему эту штуку, гроши возверну, Аркашенька. А ежели он узнает, что я тебе про голубей… сразу пришьет… и все, а труп в реке утопят. Знаю я его, крысу…
— Верхушково? — пропустил через зубы Кирюшкин, и взгляд его стал завораживающим, неподвижным, змеиным, каким бывал в момент гнева. — А ну-ка объясни подробнее. Что за Верхушково?
— С Киевского вокзала. На электричке. Деревня это, Аркаша… Убьет меня, ежели кто ему скажет, — снова запричитал Малышев. — У него оружие: немецкий «парабел» и финка… Думать не будет. Не уважает он мою личность. Мошка я для него, Аркаша…
— «Парабел», финка, уважает, не уважает! Ох ты, грамотей! Личность, твою мать!.. — Кирюшкин выругался в сердцах. — Теперь вот что, мошка! Последнее!
Он поднялся, с грохотом отодвинув стул (глаза Малышева округлились в испуге), подошел к письменному столу, на котором меж непочатых пивных бутылок, силового эспандера и гантелей валялись ненужные здесь книги, выдвинул затрещавший ящик и начал искать там что-то. Все, не говоря ни слова, точно в оцепенении, следили за ним, не предполагая, что могло быть этим последним действием после долгого допроса Летучей мыши, после всего того, что было услышано сейчас. Нежданно для всех случившееся прошлой ночью теперь выявилось настолько неопровержимым, что мысль Кирюшкина, высказанная вчера на пожаре, поражала безошибочным чутьем: «гопники» Лесика сперва взломали голубятню, выкрали голубей, видимо, захватив с собой заранее садки, потом подожгли голубятню, сараи, чтобы уничтожить следы кражи. Не без насилия над собой можно было поверить, что Малышев не участвовал в краже, хотя бы не стоял на шухере. Но фальшивый голос его, круглые неправдивые глаза, рыдающие взвизги в страхе перед болью, его дерганье на стуле, вертлявость, маленькое скукоженное личико, обрамленное оттопыренными ушами, — весь облик его был неприятен, жалок, вызывая у Александра озлобление и вместе с тем брезгливость, как прикосновение к чему-то нечистому, липкому. Наверное, это чувство не было одинаковым у всех, потому что Логачев, багрово-красный, сидел, исподлобья уперев буравящий ненавистью взгляд в Малышева, коричневые усы его топорщились, ноздри раздувались, рядом с ним Твердохлебов, показательно и твердо положив на стол огромную руку, как угрожающее орудие пытки, сжимал и разжимал пальцы, изготовленный к приказу Кирюшкина вторично здороваться с «послом». Билибин в угрюмой задумчивости нахмуривал редкие рыжеватые островки бровей, изредка взглядывая на Эльдара, который с печальным состраданием покачивал головой, его очки в металлической оправе с перевязанной дужкой то и дело съезжали на кончик потного носа, тогда он поправлял их торопливым пальцем, боясь что-либо упустить в изменении лица Малышева.
«Пожалуй, он ему не верит, как не верю и я. Зачем фальшивая подобострастность, унизительный плач? Что за этим — страх, попытка разжалобить, вернуть какой-то таинственный злополучный портсигар, умилостивить Лесика?
Кого он больше боится — Кирюшкина или Лесика? Наверняка он всецело подчинен Лесику. И все-таки предал его, если не водит нас за нос и не путает следы. В общем, мерзкий малый, слизняк…»
— Он пришел в полное удивление и смеялся, пока не упал навзничь, — произнес шепотом Эльдар не очень доходчивую фразу.
Никто не ответил ему. Все настороженно ждали, глядя на Кирюшкина.
— Значит, сарай в Верхушкове? Так, Малышев? И голуби там, у дядька Лесика, говоришь? — послышался разрывающий тишину громкий голос Кирюшкина, и, задвинув ящик, он бросил на стол перед Малышевым карандаш и чистый лист бумаги. — Давай-ка, милый, для доказательства своих слов нарисуй-ка мне дорогу от станции до деревеньки, а в деревеньке обозначь, где находится дом дядька Лесика и этот сарай и есть ли рядом с домом какой-нибудь ориентир. Топограф, конечно, из тебя дерьмовый, но рисуй так, чтоб ясно было и слепому. Допер?
— Не могу я, не умею… — задергался на стуле Малышев. — Зачем вам плант?
— Чтобы убедиться, что ты не врешь, Летучая мышь. Бывал у Лесика, конечно? И не раз? Так вот. Рисуй и не задавай вопросов. Вопросы задаю я.
— Дурак-дурак, а хитрый, карманная вошь, — с ненавистью выговорил Логачев. — Ох, церемонничаем мы с ними, мармелады разводим, сю-сю, пу-пу, а его бы надо…
— Тихо, Гриша, — не дал договорить Кирюшкин. — Пусть рисует, а мы пока помолчим, не будем мешать невинному мальчику. Как-никак он все-таки своего рода парламентер.
Видно было, что Малышев своими натренированными для чужих карманов пальцами чрезвычайно редко держал карандаш, и водил он им сейчас по бумаге с той робостью, какая бывает у впервые рисующих детей, съеженный лобик его маслено залоснился, кончик языка то и дело облизывал неспокойные губы, но Кирюшкин выжидательно выстукивал какой-то ритм по краю стола, не торопя его. Когда Малышев наконец закончил водить карандашом, обтер рукавом пот со лба и робко подсунул бумагу поближе к Кирюшкину, тот прищурился и долго рассматривал ее, потом заговорил медлительно:
— Н-да, гениальный рисовальщик, Рафаэль, ну ладно. Вся эта загогулина изображает дорогу от станции электрички до Верхушкова? Так? Теперь вот эти кружки вдоль дороги — дома деревни, что ли? Раз, два, три. Четвертый дом дядька Лесика — большой кружок? Так? Тоже ясно. А что обозначают вот эти буквы справа и слева от дома? Цэ и пэ?
— Це — церквушка… разрушенная, — прошелестел Малышев и сглотнул слюну, — а справа… справа пруд за домами. Ориентиры ты сам спрашивал…
— А сарай?
— Во дворе он. Внизу свинья. Здоровый хряк, видать. Хрюкает там и визжит, вроде голодный всегда, а на чердаке — голуби, должно…
— О, черт! Хрюкает там и визжит, — повторил Кирюшкин, растирая злую морщину на переносице. — Философ ты, Гоша, ученик Платона. А почему «должно»? Не уверен, что ли? Что значит «должно»?
Малышев заерзал, мокро шмыгнул носом.
— Глазами не видал… Из разговоров слышал.