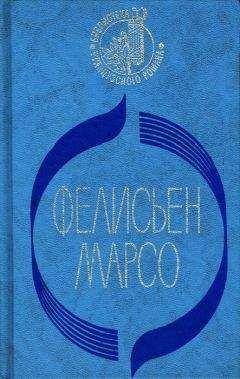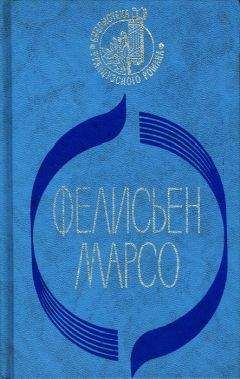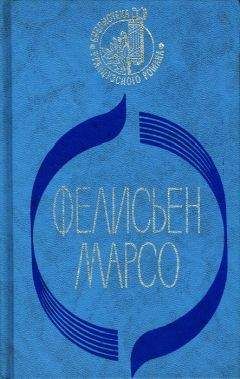— Знаете, Мажи, вы мне должны полтора франка. Так что давайте платите. Дружба дружбой, а денежки врозь.
Сияя от счастья, он смотрел на жену. А она смотрела на него, и ее маленькие плотоядные глазки вдруг делались игривыми. Игривыми, я ничего не выдумываю. Каких-нибудь полтора франка, и человек становится свиньей. Две родственные души, они не стеснялись нас. Счастливые. Воодушевленные. Всего из-за каких-то полутора франков.
Он мне осточертел, я повторяю. Но я все равно возвращался туда. Привычка. Есть некоторые вещи, которые ты делаешь, несмотря на то, что они тебе неприятны. Поди пойми почему? Мазюрам тетя и дядя тоже надоели. Они тяготились их затянувшимся пребыванием в доме. Те приехали якобы только на месяц, но по прошествии семи недель никуда не собирались уезжать, занимали место, сидели развалившись в креслах, ленясь даже убрать ноги, чтобы пропустить госпожу Мазюр с грудой тарелок в руках. Всем было очень тесно в маленькой квартире. Чета Мазюр вынуждена была уступить им свою собственную спальню. Госпожа Мазюр спала с одной из своих дочерей на очень узкой кровати.
— Это не очень приятно, господин Мажи.
Не выдержав, сна стала мне жаловаться как-то раз вечером, когда дядя и тетя ушли. Ушли в Оперу. У них даже не возникла мысль взять с собой одну из девочек, которые сгорали от желания пойти в Оперу. Правда, после этого они три дня пересказывали содержание. То была «Тоска».
— Это неприятно, господин Мажи. Однажды ночью я проснулась оттого, что моя голова свесилась с кровати, КАК У ЗАБИТОГО ТЕЛЕНКА Я подумала даже, что уже умерла.
Что касается самого Мазюра, то он ставил на ночь раскладушку в коридоре. Я помогал ему, а дядя из Монтобана в это время уже полоскал в спальне горло. Мазюр вздыхал. Но его природная жизнерадостность брала вверх. Он садился на раскладушку и шепотом рассказывал мне разные забавные истории. Начиная смеяться, он прикрывал рот рукой. Причем смеялся он, всегда опережая свой рассказ.
— А знаете, что она ему ответила, эта молодая монахиня?
И корчился от смеха. А я ждал. Потом выходил дядя, в одной рубахе, без штанов, как у себя дома, и направлялся в ванную.
— Мне кажется, здесь веселятся.
При этом он подозрительно смотрел на нас.
— Не надо мной, случайно, смеетесь?
— Над вами? Ну что вы, дядя.
И он направлялся по коридору в ванную, мыча:
— Бе-бе, я — здесь…
Для девушек. Чтобы девушки не видели его в таком виде. А если на его пути попадалась открытая дверь, он кричал еще сильнее:
— Марта, я вынужден кричать, чтобы девочки закрывали свои двери!
Короче, это Мазюров стесняло. Однако они терпели. Даже не делали никаких намеков, что пора бы и честь знать. Без причин! Без малейших причин. Даже без мысли о наследстве. Дядя не был богат. У него почти ничего не было. К тому же он сообщил, что все свое имущество завещает Лиге прав человека. Потому что этот филин был к тому же левым.
— Я нахожусь слева, — говорил он. — Как сердце. Ха-ха-ха!
— Но, может быть, он так сказал просто чтобы подразнить нас, — говорила славная госпожа Мазюр, — и после его смерти нас будет ждать сюрприз. Вы же видите, какой он.
Они вернулись из Оперы радостные, оживленные, с блестящими глазами. Госпожа Мазюр предупредительно спросила:
— Вы случайно не замерзли на обратном пути?
— Хе, хе! — произнес дядя. — Я бы с удовольствием выпил рюмочку ликера.
И все это без причин, сказал я. Нет, это не совсем точно. Есть некоторый нюанс. Роза и Эжен — никаких причин, совершенно верно. Тут ничего ни прибавить, ни отнять. А вот Мазюры — это несколько другое дело. Нет причин? Можно и так сказать. Никаких НАСТОЯЩИХ причин, во всяком случае никаких серьезных причин. Но при этом были все же какие-то их причины. Оправдания. Кое-какая чушь, которой они не желали пренебрегать. Дядя им надоедал?
— Да, но это наш дядя. Брат моего отца.
У Розы и Эжена не возникал вопрос о причинах. Для них это была чистая Сахара. Ни деревца, ни тени. Пустыня, которую они без труда заполняли собой. Заполняли вплоть до самых отдаленных закоулков, вплоть до углов. Эжен, сидя на своем стуле, в распахнутом жилете, хе-хе-хе! Роза со своими грудями и своим задом. И вокруг них — ничего. Ни для чего не оставалось места. Их мир — это были они сами, и все тут. В то время как Мазюры, хотя и следует оговориться, что они занимали меньше места (система, как я уже отмечал здесь, — это всегда некое самоуменьшение), но эту пустоту, которую они оставляли вокруг себя, эту пустоту, которую они могли бы оставить пустой, они ее загромождали. Они совали туда всякие свои ложные обоснования, свои алиби, свои ширмочки. Кстати, надо признать, что они захламляли пространство все-таки не так сильно, как некоторые другие, как, например, моя мать. Незаполненные зоны, зоны тени у них все — таки оставались. Но система уже присутствовала. С ее ловушками. Я спал с Розой и ходил к Мазюрам. Ни то, ни другое не имело причин, не имело никаких оснований. Это была просто привычка. Так уж все сложилось, сложилось само собой. Но Роза по крайней мере знала об этом. И не пыталась что-либо объяснять, искать причины. В то время как Мазюрам нужны были оправдания, объяснения, алиби. Потребность оправдываться (а перед кем, спрашивается?).
— Дядя жил у нас. Он любил играть в карты. Вот мы и пригласили Мажи. Он хорошо играет в карты.
Ловушка. Это уже давала о себе знать система. Уходя от Розы и Эжена, чтобы отправиться к Мазюрам, я не только менял одну улицу на другую (хотя они жили в верхней части улицы Жана-Жака Руссо), я менял мир, я оставлял свободу в обмен на причины. Или на их карикатуру: на оправдания. Я входил в заранее обусловленный мир. Это сохранилось даже потом, когда дядя и тетя, наконец, уехали. После того как исчезло первоначальное оправдание, Мазюры машинально стали искать другое. Надо же было оправдать привычку видеть меня у себя.
— Вы придете завтра, Мажи? Обязательно, без всяких церемоний. Вы же холостяк. Вы, наверное, чувствуете себя одиноким.
А госпожа Мазюр:
— Ну, конечно же, господин Мажи. Когда вы приходите, мой муж по крайней мере не идет в свое кафе. В эти прокуренные залы.
Хотя в «Улитке» хозяин установил вентиляторы. Но система не дремала. Система, которой в какой-то мере плевать и на вентиляторы, и на истину. И она исподтишка садилась мне на плечи. Сначала — оправдание. Потом оправдание превращалось в обоснование, в причину. Возникла причина. По прошествии какого-то времени у меня появилась причина. Так себе. Пустячок. Маленькая причина. Даже не причина: простая фраза.
Это случилось в воскресенье днем. Я едва пришел, как появились друзья, начальник отдела, где работал Мазюр, господин Раффар и его жена. Любезные. Доброжелательные. Улыбающиеся.
— Вот так сюрприз, господин Раффар!
— Хороший, надеюсь?
— Великолепный, господин Раффар.
Мазюр в конце концов предложил сыграть в вист.
— Я знаю, что вы любитель, господин Раффар.
— О! Господин Мазюр, я вижу, вы знаете его слабые стороны.
— У нас здесь как раз наш друг Мажи…
Но Раффар стал возражать:
— А госпожа Мазюр? Я очень хочу видеть госпожу Мазюр с картами в руках.
— Я играю очень плохо, господин Раффар.
— Красивая женщина всегда играет превосходно, госпожа Мазюр, — сказал он, лукаво посмотрев на нее.
И тут Ортанс произнесла:
— Оставьте их, господин Мажи. Идите к нам. Молодежь будет играть в рами.
МОЛОДЕЖЬ БУДЕТ ИГРАТЬ В РАМИ. Я не знаю, понимаете ли вы. Молодежь? И меня тоже воспринимали как часть молодежи? Понятно ли, почему я удивился? Почему это меня взволновало? Да, взволновало. Эта фраза поразила меня. Сад, старый сад, сухой, запыленный, окруженный стеной. И в глубине — родник. Маленький родничок. НО ЖИВОЙ. Молодежь? В конце концов мне ведь действительно было только двадцать пять лет. Столько же, сколько старшей дочери четы Мазюров. В общем, не больше. Но я забыл об этом. Еще интереснее, я не знал этого. И другие до настоящего времени тоже, казалось, не знали этого. Двадцать пять лет? Но ведь, когда я приходил к Мазюрам, я приходил к родителям. К дяде.
Мазюр говорил:
— Один из наших друзей.
Он не говорил:
— Друг наших девочек.
Госпожа Мазюр. И господин Мазюр. И Роза, которой было тридцать девять лет. И Эжен, которому было сорок восемь. Молодежь? И это был я. Молодежь будет играть в рами. Рами — это был я. Молодежь — это был я. Это фраза раскрыла свои объятия именно для меня. Она содержала меня в себе. Таила меня в себе. Служила мне пристанищем.
Уголок девочек… Куда я поглядывал издалека, сидя за столом, где мы играли в вист, угол, который был запретным для меня, закрытым, еще одним яйцом, куда я даже и не мечтал проникнуть. И вот я туда проник. САМЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ. Что никого не удивляло.
— Ну, конечно, — произнес господин Раффар. — Молодые — с молодыми. Мы ведь обойдемся без них, не правда ли, госпожа Мазюр?