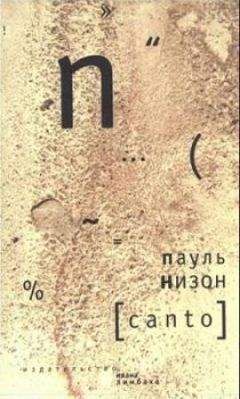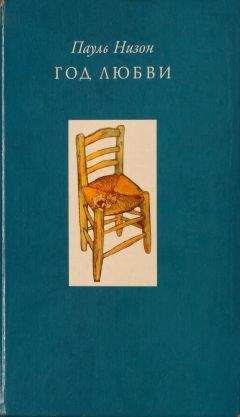Salve Maria.
И все взывают к Марии. Визжащие тормоза. Хлопающая дверца машины. «Мария, это ты? Садись, Мария, мне надо поговорить с тобой». И ее волосы — так высоко вздымаются, а глаза — сияют таким светом. Мария, добрый человек с Виа-Венето.
Мария дома, падрона?
Только что ушла, и подумайте только: отправилась в Пипистрелло. Один посетитель ее потребовал, и не простой на этот раз, богатый человек, сам директор лично звонил. Мы вечернее платье ей стали примерять, ах, как она была счастлива, бедная девочка, вы бы видели! До чего хороша. А как смеялась! Там вверху только кое-что надо было подправить, мы быстренько все подкололи, а она шила и пела, довольная такая. Доброе дитя! О Dio[15], только бы он ее взял.
Квартиру бы ей купил и денег дал достаточно, чтобы не надо было ей больше бегать, ведь она так больна. Недавно врач сказал: если она срочно к нему не придет, то никакой надежды уже не будет, она и года не протянет. Вот такие дела. Ноу нее нет времени, так она говорит, и при этом абсолютно никаких денег домой не приносит. Всё отсылает матери, этой вечно стонущей ведьме, туда, на север, как будто ее, Марии, сыночку так много нужно. Да она просто эксплуатирует ее. Подумала бы, в конце концов, о себе. Бросила бы эту старуху, да и братца этого, которому она еще сверх этого деньги шлет. Но она меня совершенно не слушает. Платит и платит им. И губит себя.
Мария увиливает от меня, и я не могу понять как. Ее пути нигде не пересекаются с моими, ее пути ускользают от моего понимания. Она пробегает по стенам, гуляет по потолку, шагает по линии горизонта. Я знаю одну особу, которая всегда от меня ускользает.
А ты знаешь, чем я занималась, тогда, когда приехал мой друг, мне было шестнадцать и я жила в Турине, ну тот самый друг, который потом исчез, когда узнал, что будет ребенок? Я занималась живописью. И профессор считал, что у меня не так плохо получается. Значит, рисовала, понятно. Живописью она занималась.
Мария со своим сыночком. Капризный ребенок.
Я видел их в кино. Мария благоговейно, с удивлением следила за грандиозным сюжетом на экране, сидела чинно, с разгоряченными щеками, и рядом с ней старуха с горечью во взгляде, она то и дело кормила мальчугана, чтобы он перестал ныть, кормила, кормила, пока он в конце концов не заснул.
Все взывают к Марии, все эти юные рагацци, вителлони в собственных и взятых напрокат автомобилях взывают к ней. Salve Maria, поедешь с нами? И каждый хочет заполучить ее. Но заполучить ее нельзя. У нее уже есть
мать, жадная мать
ребенок
брат, младше ее; эпилептик о
на больна
и ей двадцать лет, а денег никогда не хватает
Потом ее отправили в больницу, когда ее снова прихватило. Отвезли на такси, меха и всякие безделушки остались дома. Отвезли в воскресенье рано утром, против ее воли, маленький чемоданчик, бледное время дня, потому что еще очень рано, но перед входом в больницу уже — машины, монашки, посетители. И, как водится, лотки с цветами, фруктами, сувенирами, как возле кладбища, и громкоговорители, и подтянутая, с иголочки, полиция перед больничной казармой. Серым камнем облицован зал, а в нем добрая сотня кроватей. Каждая кровать отделена ширмой; холодно, как в склепе, и сыро; палата для бедняков, как в доисторическое время. И Мария — в этой кровати, в длинной больничной ночной рубашке, ей зябко, и ее знобит. Бормочу что-то утешительное, чтобы больше спала, изображаю бодрость. И жму руку, мол, приду скоро снова. И — на улицу, где тем временем настало солнечное воскресенье.
Как чувствует себя Мария, а, падрона? Что говорят в больнице? Что нового слышно о Марии? Ей лучше? Вы ведь ходили к ней, ну и как впечатление? Я вас плохо слышу, какие-то помехи на линии, ваш голос слышу совсем неразборчиво, да, я понимаю, вы очень заняты, но что случилось? Только не вешайте трубку, ну, пожалуйста.
И снова вечер на улице Венето. Блеск огней и это животное содрогание земли. Мы хотели только чуть-чуть прогуляться, вдвоем с Массимо, мимо столиков, газетных киосков, баров. Подожди, Массимо, давай-ка вернемся. Вот она сидит. Нет, это не Мария. Извините, барышня, я принял вас за Марию. Что? Вы были знакомы с Марией? Что значит — «были»? Она ведь сбежала, Массимо, исчезла из больницы. Ты знал ее, Массимо? Ее звали Мария. Я ее знал. Она все время убегала от меня, непостижимо. Теперь она умерла, как говорит вот эта барышня. Мертва.
Я нашел слово, отец, нашел подходящий образ: есть гигантское правящее жизнью тело без формы, без начала и без конца. Это — ПОТОК. Мы бросаем туда крохотные свои экскременты как свидетельство самих себя, вкладываем в него свои волевые импульсы и свои мнения; голосуем; прикладываем руку к этому телу, чтобы повлиять на него или придать ему направление. Но туша невозмутима.
Бедра потока столь мощны, что наши хилые щупальца по сравнению с ними — не более чем мушиный помет. Да, мы как та муха, которая сейчас жужжит у меня в комнате, и неважно, что эта сцена, которую я называю комнатой, значит для нее самой. Вот она жужжит где-то вне меня, мешает мне, сама того не ведая, и ей совершенно все равно, что для меня значит комната: она носится по воздуху, оставляет свои грязные следы, и для нее все это не более чем пространство, пространство для полета, ограниченное стенами. Она еще молода, потому что очень уж ловко, даже задорно, увиливает от моей руки, а рука хлопает уже совсем близко от нее. Но в конце концов рука ведь дотянется и прихлопнет ее окончательно, и выбросит из моих владений на помойку, вырубит ее, эту помойную муху. И она выпадет из потока. Как мы.
Зачем отправляемся мы на чужбину, в какие-то течения, в темные пространства, мы, ползучие и летучие создания, вдохновленные предчувствиями — и падаем вниз. Каково живется вокруг живущего и вместе с ним. С тем, кто принимает ход истории и мнит, что провидит его. Устраивается, становится влиятельным. Политик в истории страны и человечества, предприниматель в истории предприятия и любящий в истории любви. Все это — одна иллюзия. Все это — лишь щекотка для слона, мышиная возня с самого краешка этой туши, этого серого накатывающего потока, а мы в ослеплении обозреваем какие-то миниатюрные горизонты и катастрофические вспышки; на крохотном пространстве. Но разве это как-то задевает поток? Чего только не говорят политики о судьбах человечества, об истории мира, чего только не говорят влюбленные! Как, наверное, хохотал бы осознающий сам себя поток, послушав политиков и влюбленных, историков и богословов, как они всё твердят и твердят о нем; хохотал бы, с именем Божьим на устах, этот поток, образ потока, слушая, как они всё твердят об ответственности, о влиятельности, о мерах… ох, как бы он хохотал. Неужели от щекотки?
А любовь? Занять в потоке свое маленькое местечко. Где ширится сияние фонаря. Существует ли любовь? «Ибо живущему не дано замечать, существует ли что-то или нет»?
Я хочу только одного: быть как столб. Отец мой. Да, столбом, пробитым гвоздями, с неровностями, с зарубками, с серым налетом. Но чтобы какая-то часть его крепко сидела во мне самом, да-да, как эти столбы, к которым привязывают венецианские гондолы, они ведь торчат из воды совсем ненамного; столбом, который возвышается надо мной, невысоко, совсем чуть-чуть, но сам по себе он прямой, сильный, молчаливый. Чтобы все время, пока длится настоящее, был столб в потоке.
Но так: в комнатах, розовых от маркиз, тускло-коричневых от дешевой мебели. Жизнь в съемных комнатах. Временное пребывание. Сцена, какую предложат. Не мне принадлежат и не тебе. Легко заменяется. Позаимствованная в кино, а можно ее и обратно вставить. Откуда эти потеки на стене? Наверное, от предшественника. Эта кровать под покрывалом. Кто там на фотографии, моя мама или твоя? Картинки на стене, что ж, очень мило, так и чудится, что кто-то входит, а кто-то выходит — мило. Так думает столб. Прибежище одной судьбы, многих судеб — ну хорошо. Так думает столб. Комната. Надо приспособиться. Расслабиться, что-нибудь выпить, поиграть словами; втиснуться в те ниши, где жили другие; ложиться спать, вставать, зажигать газ, выключать свет; отвечать, слушать. Твое место. Столб принимает его, он согласен.
Комната. Временное пребывание. Как площадка для мимолетных сцен. Легко заменяется. Бедняга, гордец, порождение обстоятельств, созданный для обстоятельств и для моментов удивления. Нищета, сомнительная роскошь. А потом — поток настроений хлынет в такую вот комнату; и вдруг — боль. Без всякого повода. О том, что давно прошло, что было очень давно. Запоздало навалилась, отдельно от повода. Как настигает нас свет. Он все уравнивает, хорошо. Говорит себе столб.
Путешествие в стеклянной скорлупе отдельного купе. Нарастающие чувства касаются происходящего в другом купе. Да, даже страдание не находит своего предмета. Отличное путешествие. Так думает столб. Ребенок, сидящий напротив, напевает себе под нос: вот мужчина жил один, у него жена была, она мужа умерла, потому что мужу не мила была, потому что ему не мила была. Лес исчез, зато мы здесь. Мы исчезли, зато есть лес. Скоро Рождество.