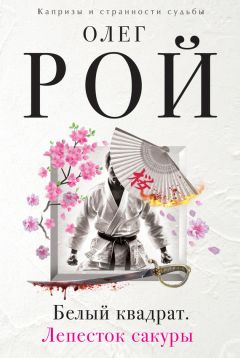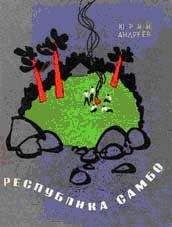Визиту Спиридонова она, естественно, обрадовалась.
– Мой тигр, ты вновь пришел к своей бедной Акэбоно! – воскликнула она, вскакивая с подоконника, но, заметив выражение лица Виктора, отступила на шаг. – Что с тобой? У тебя такое лицо, словно кто-то умер.
Спиридонов не ответил, но Акэбоно и сама догадалась:
– Это из-за войны, да? – Акэбоно сжала маленькие кулачки. – Будь она проклята! Ненавижу войну, ненавижу проклятого Муцухиту!
В устах японки такое звучало кощунственно; наверно, если бы кто-то решился сплясать камаринского в храме Казанской Богородицы в Москве, это выглядело бы примерно так же, как то, что сказала Акэбоно. Даже имя божественного Тэнно было священным, даже поминать его всуе было под строжайшим запретом…
Мелкими шажками Акэбоно приблизилась к Спиридонову и прильнула к нему всем телом. Положив головку ему на грудь и пряча глаза, она сказала:
– Мой господин, позволь мне разделить с тобой эту боль. Я желаю, чтобы сегодня ты был со мной груб, как хунхуз. Свяжи меня, исполосуй мою кожу ремнем так, чтобы на ней пролегли кровавые следы. Возьми меня и отомсти моему народу, мой тигр. Я вся в твоей власти, если ты велишь – я умру, но позволь мне умереть у тебя на руках…
– Что ты такое говоришь! – возмутился Виктор. – Акэбоно, я тебя лю…
– Остановись, ради богов Нихона, ради своего великого Бога… – Акэбоно зажала ему рот маленькой ладошкой. – Не говори мне таких слов, чтобы боль, уже живущая во мне, не стала еще сильнее. Лучше сделай со мной то, о чем я тебя прошу, ведь нет для меня ничего приятнее, чем успокоить тебя, чем видеть твое лицо со счастливой улыбкой на нем…
– Нет, – ответил ей Виктор твердо. – Я не хочу, чтобы больно было тебе…
Он обнял Акэбоно и крепко прижал к груди.
– Лучше давай любить друг друга, – тихо сказал он. – Чужою болью свою не вылечишь. Когда в душе рана, только любовь и может помочь…
Стараясь отвлечься от назойливых воспоминаний, Спиридонов углубился в работу и в какой-то мере отвлекся. Когда время приблизилось к полудню, он набросал с десяток страниц черновика, иллюстрируя текст рисунками на глазок. Рисовать Спиридонов почти не умел, но все же из его стиля «палка-палка-огуречик» можно было понять последовательность и траекторию движений, а большего и не нужно было для его цели.
«Эдак я и без фотографа обойдусь», – подумал Виктор Афанасьевич и улыбнулся.
Начав писать, Спиридонов не останавливался, не прерывался и не перечитывал написанное. Этим он занимался тогда, когда поток мысли, словно река, натолкнувшаяся на порог, останавливался и прекращал свое непрерывное течение. Но сейчас остановиться было равнозначно тому, чтобы вновь оказаться в тех днях, которые он давным-давно заставил себя забыть, и потому Виктор Афанасьевич писал несколько часов кряду, прерываясь лишь на то, чтобы подкурить очередную папиросу и отхлебнуть из стакана остывшего чаю.
И все-таки воспоминания, словно тонкая струйка иприта в щели наспех построенного блиндажа, просачивались в его память. Мы можем не хотеть вспоминать о чем-то, но заставить себя забыть – не в нашей власти. Забвение – это дар свыше, иногда куда более ценный, чем жизненный успех, например.
…Когда Виктор шел на эту встречу с Акэбоно, он еще не знал, что она будет последней. Но поведение возлюбленной ему сразу показалось странным. Нет, она вела себя почти как всегда, лишь казалась немного более напряженной, какой-то более торжественной, что ли…
Спиридонов знал, что незадолго до этого в Талиенвань приезжал высокопоставленный чиновник из Токио, и боялся, что по этому поводу у Акэбоно будут проблемы, но та заверила его, что ничего страшного не случилось. В остальном все было как всегда, и лишь перед уходом Акэбоно достала из поставца коробочку для бенто. На крышке коробочки были нарисованы двое дзюудоку[35] в поединке, причем дзюудоку слишком явно напоминали Спиридонова и Фудзиюки, чтобы это было простым совпадением.
– Я сама это сделала, – подтвердила его мысль Акэбоно. – Точнее, не коробочку сделала, а раскрасила крышку.
Спиридонов с восхищением посмотрел на нее:
– Да ведь у тебя настоящий талант! По какому поводу подарок?
– Я хочу, чтобы вы, мой господин, кое-что в ней хранили, – сказала Акэбоно, шаря маленькой ручкой по полу, где лежала одежда. Наконец она подняла развязанный Спиридоновым пояс, достала из поставца нож, вроде танто, только поменьше и с закругленным, как у ланцета, концом, и быстрым движением рассекла пояс на две половинки. Одну положила в шкатулку, другую – опустила в свой поставец. Шелковая ткань заструилась алым водопадом. Водопадом из крови.
– Это вам, мой господин, – проговорила она, протягивая ему коробочку. – Знаете, я не совсем понимала слово «мечта», но теперь поняла и скажу – у меня есть мечта. Я хотела бы, чтобы никто никогда не развязывал этот пояс. И теперь его не развязать уже никому. Моя мечта исполнится, пусть и наполовину лишь.
– Погоди, а чем ты подпоясываться будешь? – простецки поинтересовался Спиридонов.
– У меня есть другой, – чуть улыбнувшись, ответила Акэбоно. – А этого пояса никогда не коснется ничья рука, кроме вашей. Вы мне поможете его завязать?
– Если тебя устраивает то, как я это делаю… – Спиридонов уже завязывал на ней пояс, но очень неумело, что она и сама отмечала со смехом.
Но на этот раз он услышал:
– Лучше вас никто это не сделает, и я никому этого не доверю. Этой ткани будете касаться только вы и я.
Она достала из поставца широкую ленту белого шелка и протянула ему. Виктору лента показалась похожей на фату, и он счел это добрым знаком. Почти торжественно завязав на Акэбоно пояс, он нежно поцеловал ее в губы (для него было шоком, когда он узнал, что японцы считают поцелуй едва ли не интимнее полового акта) и вышел, еще не зная, что видит Акэбоно в последний раз.
* * *
На исходе был август. В госпитале царила кутерьма. Большая часть раненых отправлялась в Далянь, где их ждал санитарный транспорт. На месте оставались лишь те, кто пока не мог перенести подобное путешествие.
Спиридонов фактически уже был свободен: в далеком английском Портсмуте остзейский немец Витте и японский даймё Комуро подписали мирный договор. Унизительный для России, но прекращавший еще более унизительную войну.
Наутро Виктор зашел к Фудзиюки, но того не оказалось на месте. Спиридонов огорчился: он рассчитывал провести тренировку, потом помыться и отправиться в Талиенвань. Ему хотелось теперь, когда появилась такая возможность, бывать у Акэбоно почаще. Но уйти, не поставив учителя в известность, он не мог, а Фудзиюки, по словам его денщика, куда-то отбыл еще поутру.
Раздосадованный, Спиридонов отправился в их «тренировочный зал» и занялся самоподготовкой. Одному тренироваться было скучно, и, не закончив занятия, Спиридонов вышел из фанзы на свежий воздух, чтобы покурить.
Он еще не докурил, когда увидел учителя, бредущего в направлении своей палатки. Фудзиюки был каким-то не таким, как обычно. Он казался старше, словно с момента их расставания прошло больше десятка лет.
Виктор окликнул его:
– Фудзиюки-сама, а вы опоздали! Я без вас начал. Думал закончить побыстрее да и наведаться к Акэбоно.
Фудзиюки остановился и грустно посмотрел на него. Спиридонов чувствовал смутную тревогу: кажется, с его учителем происходит что-то нехорошее. Разглядывая Фудзиюки, Спиридонов заметил небольшое пятнышко крови у него на рукаве кимоно.
– Сегодня не стоит ходить в Талиенвань, – сказал наконец Фудзиюки необычно глухим голосом.
– Это еще почему вдруг? – недоумевал Спиридонов. – В город начальство с ревизией нагрянуло? Знаю уж, даже видел вашего бонзу…
– И вообще не стоит, – не слушая его, продолжил учитель, – Акэбоно вы там не найдете.
Спиридонов побледнел:
– То есть как это?
– Чиновник из Эдо… – Фудзиюки, отводя взгляд, поправился: – простите, из Токио, приехал с предписанием. Вы никогда не спрашивали, как Акэбоно и другие девушки оказались в Талиенване?
Спиридонов отрицательно покачал головой, вспомнив, что она хотела что-то такое ему рассказать, но так и не успела.
– После победы над Китаем в нашей стране изменилось многое, – стал объяснять Фудзиюки. – Раньше мы преклонялись перед Западом, но теперь стали считать себя ничуть не хуже. Возможно, это и правильно, но для караюки-сан это было началом конца. Дзёсигун перестала быть нашей гордостью и стала нашим позором. И чиновники двора Муцухито приложили все усилия, чтобы вернуть караюки-сан на родину. Бордель в Талиенване был последним оплотом дзёсигун. Но война вот-вот закончится, и до него тоже дошли руки. Армии он больше не нужен, а гайцзыны не должны услаждаться ласками дочерей Нихон…
– Вы хотите сказать, что… – медленно произнес Спиридонов и не договорил.
– …их всех депортировали на родину, – закончил его мысль Фудзиюки. – Акэбоно не могла ослушаться. Она…