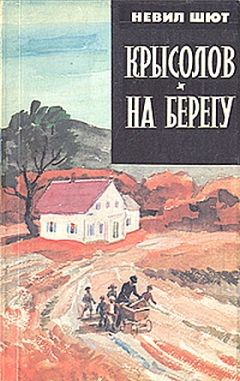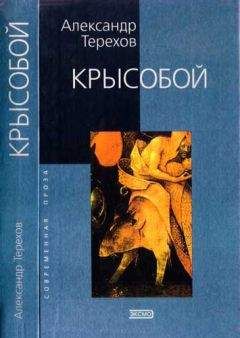— Вы намекаете на путь американцев? — Булен дзинкнул бутылочным горлышком о рюмку.
— Именно, Федфедч! Хватит монстров без нас. Пусть новая Россия вспомнит свой старый лоск — свои манеры. (Кстати, с какой манной небесной вам свалилось русское винишко? Выкрали в красном посольстве! Ха-ха-ха! А я поверил). Манеры, доложу я вам, вовсе не признак одряхления. Еще пять-шесть лет тому назад от немалого числа зарубежных русских мне приходилось слышать едва ли не восторги по адресу Джугашвили. Какая сила! — говорили они. Злая сила, да, но ведь сила! Хочет отправить на плаху — и отправляет. А вот если бы в свое время государь наш, несчастный Николай поступал бы так же — назначил бы, к примеру, Дзержинского главой русской полиции, то и революции не случилось бы. Ленин ползал бы в кровавой слизи и умолял бы арестовать Крупскую, толкнувшую его на путь измены отечеству… Да-с. Революции, может, и не случилось бы. Но Россия не была бы тем, чем она все-таки была, и уж точно никто бы и никогда не мечтал воскресить такую Россию…
— Но ведь карательная машина неизбежна? — Булен предложил сигарный ящичек.
— А вы думаете, в распоряжении Джугашвили карательная машина? (Спасибо. Вы бывали в Гаване?) Крыса — вы, простите, сами с ними сравниваете — кусает не потому, что кого-то, ха-ха, наказывает, а просто так — по свойству. Карательная машина, может, и неизбежна. (А, вот, пожалуй, как сигарный ножичек. Но только не придет в голову класть туда палец?) Так что именно карательная и именно что машина. Для преступников. А вот чтобы не запихнуть в машину невинного, давно придуманы адвокатура, присяжные — в России полвека существовал суд присяжных! И уж, конечно, давно не карают за мысли. Сталин, скажу я вам, которого у нас считают воплощением силы, на самом деле… слаб. Ведь, убивая невинных, он сам роет себе могилу. Как? Очень просто. Коммунизм не сможет убивать людей бесконечно — люди кончатся. А вот когда он «подобреет», прекратит убивать, сразу подкрадется увядание. Знаете, это как с вампиром. Морковкой не обойдется. Вернее, так. Будут надеяться кремлевские прожектеры: вот, началась человеческая жизнь, радуйтесь! Автомобиль, пожалуй, сработают: нате, ездите! Норки-квартирки, пожалуй, нашлепают! Я скажу больше: не исключено, гхи-гхи (простите, чуть не задохнулся), что они выдвинут лозунг: сделаем сигару достоянием широких народных масс! Если, конечно, лапы Коминтерна пророют ход на Кубу… Вот — как станет хорошо… Но ведь родственники убитых останутся? Родственники родственников? Дети, внуки, племянники? Пока они молчат — власть будет сама обманывать себя: мы не помним и никто не помнит. Но, ха-ха, почему же не помнят? И когда-то — вот здесь я сроков вам не стану называть — может, через тридцать лет после смерти короля крыс, может, через пятьдесят — эта немота взорвется и всеми невинными завалит беспомощную фигурку такого «сильного» Сталина. А с ним будет погребен и коммунизм. Ведь он станет навсегда синонимом крови, смерти, ада. (Фых-фых-фых. Интересно, Сталин просил Черчилля угостить его сигаркой?) И, уж не обижайтесь за нашу эмигрантскую гордость, придется тогда признать, что Сталин сделал для смерти коммунизма больше, чем сделало Белое движение, эмигрантская вольная пресса, лекции Ильина (не огорчайте его, ха-ха) или переведенные аж на норвежский статьи Бердяева о коммунизме…
— Фер… Бердяева?
— Ну да. Николая Александровича. Вы не видались в Лютеции?
— Не приходилось. (Булен умел быть лаконичным.) Я не засиживаюсь на одном месте долго.
— Федфедч, вы прирожденный дипломат. Кстати, я до сей поры не уяснил, чем вы занимаетесь? Извините, за бесцеремонность…
Буленбейцер повертел расставленными пальцами:
— Разным. Малоудачной, — он улыбнулся, — коммерцией.
— Ну да, — подхватил Божидаров, — конечно. Торгуете коконами шелковичного червя. Но (он подмигнул по-достоевски), пожалуй, я согласен войти в теневое правительство, которое вы составляете…
Правда, сумасшедший или прирабатывает на Крыскву? — вот что мелькнуло у Буленбейцера, пока Божидаров, откинувшись в кресле и задрав бородку, выбулькивал счастливый смех.
Впрочем, надо отдать должное Буленбейцеру: манией преследования не прибаливал.
К тому же он любил изящный приемчик — почему бы не назвать вещи своими именами — меньше всего даже проницательные люди верят подобным признаниям. Так и с Божидаровым:
— Вы же знаете, — прервал Булен его смех, — я давно работаю на англичан…
— Федфедч, уморили!..
Какая разница — что он подумает? На лице — ничего не увидит — сквозь рюмку с порто-вейном за здоровье, в доброжелательно-изумрудном правом глазу…
А если его вдруг выследят, — по крайней мере, передние зубешки соотечественников он раскрошить всегда успеет: железная трость (под черное дерево, которое предпочитают торговцы колониальным товаром) — его нисколько не утомляет на тихих прогулках.
А сочные плечи пловца? В Бриенцском озере устроена хорошая купальня — швейцарцы, пожалуй, не сунутся, если вода ниже восемнадцати по Реомюру, но он, Булен, — петербуржец, а не европейский неженка. После таких водных процедур чувствуешь, что и на пятом десятке, кроме стеклянного глаза, в теле нет изъянов.
Стеклянный — в любом случае не станешь жалеть.
9.От всего подобного хороши прогулки в горах. Даром, что ли, он снял домок с видом на Юнгфрау? (Конечно, хотелось подарить Ольге и это «украшение» в оконной раме.)
Сначала в блистающем авто по серпантину, потом, после перекуса в отеле, по козьей тропе вверх, вверх. Добрый пастырь — мальчишка-пастух, несущий на заплечье козу до пастбища (к слову, пастбище размером с каморку), сигающий с козой через камни, провалы, по краю обрыва метров на сорок — такой добрый пастырь — не пастораль для туристов, а здешняя жизнь. А небо, как будто не догадывающееся о существовании человека? Впрочем, подвесные дороги там и там поскрипывают — но с началом войны (пусть боговозлюбленная Швейцария не воюет) — кресла ползут пустые. Нет, виден вдруг господин — ну, конечно: они узнают патера Шабонэ (он пытается отвернуться — потом измученно машет — на днях будет объяснять, что такие туристическо-глупые приемы позволяют, тем не менее, погружаться в созерцание Абсолюта), другой раз — их окликают первыми — ну, конечно — это розовый Джейсон-Карно жестикулирует котелком — интересно, уронит? — «А что за плоскогрудая прелестница с ним?» — Ольга сердится в бинокль.
Ночевка в странноприимном доме монастыря святого Бернара — «Послушай, — будет шептать Ольга, разметав волосы на подушке (нет, монахам ее локоны — не соблазн — им достаточно козьего сыра), — послушай, что я подумала. Вот как много, ну прости меня, что я о такой ерунде, — как много все мы говорили про лучшее общество, свободу, какую-то справедливость, какой-то поиск путей, а там, — она махнула рукой в оконную темноту, — кричали и трещали про новую эру. Но как смешно это, когда видишь этот монастырь, который из грубых камней сложен без математики, без прогресса, без фотографий успешной стройки, который стоит сколько веков? ты посмотрел? Много, да, много. И много веков тут так мало говорят и не знают слов: программа, общество, прогресс, поиск путей, — и много веков делают простое дело: приходят итальянские бедняки — им придумывают работу и дают плошки с едой, приезжают сытые англичане (когда теперь приедут?) — им дают отдельные комнатки и грелку в кровать, приезжает непонятный толстяк с сигарой во рту (она посмотрела на Булена почти нежно), и — ты заметил? — на столик ставится пепельница — я видела: в других комнатах нет. Но главное — и об этом для русских детей писал Лев Николаич, — а мы теперь это видим — в зиму, в метель выходят искать заблудившихся. Добрые монахи, добрые псы».
Повернется к нему: «Вот ты кто: все-таки быкодав или все-таки сенбернар?»
«Я слышал, — стряхнет пепел Булен, — что в Москве вывели новую породу: скрестили сенбернара с овчаркой — внешне добродушный сенбернар, — а злющий, как овчарка, — я даже видел фотографию. Все как у сенбернара — а глаза сатанинские. И знаешь, как назвали? Московская сторожевая…» — «Это на них похоже».
Разумеется, не самое приятное — идя вверх, все равно падать вниз из-за таких разговоров. Ты подходишь к хладно-синему языку глетчера (так именуют здешние ледники), который вытянут до тихих садов, живых изгородей, до пастбищ, прижимаешь ладони к снеговой корке, которая протаивает сотнями золотых капель на солнце, и вдруг вспоминаешь, как будущий крысиный король первый — укушенный блохой бешенства Ульянов — ненавидел эту Швейцарию — «Швейцаиа — отватительна бужуазна! Эти гупенькие швейцацы поседними сдеают еволюцию!»
Ну, конечно, — швейцарское гостеприимство он грыз с наслаждением: чистые тарелки, чистые постели, чистые домики… «Я всегда удивлялась, — Ольга помахала рукой монаху, который нес корзину, наполненную камнями для починки дороги, — я всегда удивлялась, как хватало у его мышильды бесстыдства говорить, что в Швейцарии трудно будет устроить революцию. Коли эти люди счастливы — и совсем не хотят революции, так оставьте их в покое! Конечно, если ваша цель в самом деле — счастье людское…»