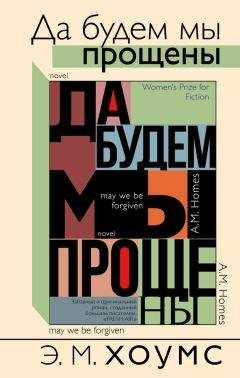Длинные искривленные пальцы тети Лилиан откручивают тонкую крышку, ее содержимое постукивает там, запертое. Руки у Лилиан в леопардовых старческих пятнах, редкие волосы, выкрашенные густым ненатуральным красным, зачесаны на темя и похожи на ржавую стальную проволоку.
Наконец ей удается открыть жестянку, там осталось только десять печений.
– Уже не столько пеку, сколько раньше, – говорит она.
Я беру одно, надкусываю. Твердое как камень, как еврейские бискотти.
– Очень вкусно, – говорю я с набитым ртом.
– В последний раз я тебя видела на похоронах твоего отца, – говорит она.
Я макаю печенье в чай. Второй раз откусить получается проще. Доедаю печенье и пытаюсь взять второе, но Лилиан резко убирает жестянку и закрывает ее крышкой.
– Приходится ограничивать выдачу, – говорит она. – Уже не так часто пеку. Это, может, вообще последняя партия.
– Расскажи мне про отца, – прошу я. Выдохнув слово «отца», я на следующем вдохе будто вижу его самого и слышу его запах. Вот пять костюмов, оставшихся висеть в шкафу после его смерти. Вот лосьон для ухода за волосами, маслянистый, с пряным запахом – отец плескал его на руки, втирал в волосы и потом зачесывал их назад. От лосьона оставались пятна (мама называла их «жирными») на подушках, на диване, на креслах в гостиной – всюду, где оказывалась голова отца.
– Менеджер среднего звена, – бубнит тетя Лилиан. – Им он и был всю жизнь. Всегда над ним был начальник, которого он ненавидел, и кто-нибудь в подчинении, на ком отрывался он сам. Он продавал страховки. Он работал на синагогу. Потом занимался инвестициями. Если кто-нибудь когда-нибудь пытался с ним спорить, он взрывался. Всегда делал все по-своему, запугав всех вокруг.
Я киваю. Вполне согласуется с моими собственными смутными воспоминаниями. Она продолжает:
– Вот мой муж, он моих родственников не любил, говорил, что они слишком категоричны и необразованны. И был прав. Твой отец всегда спорил с Монти и никогда не отступал, пока его не сокрушит, – прав он был или не прав.
Я качаю головой.
– А потом Монти не стало. Никогда не говорила этого вслух, но до сих пор уверена, что твой отец тут очень немалую роль сыграл. – Она говорит с отвращением, будто выплевывает, открывая глубокую тайну. – Вот таким был твой отец. Ему требовалось всеобщее внимание, и если его не оказывалось, он себя вел как ребенок. Вот почему он с твоим братом никогда не ладил – они одинаковые были. А ты, – она тычет в мою сторону узловатым пальцем, – стоял тут, как умственно отсталый.
Я ничего не говорю. Насколько я помню, меня никто никогда не называл малолетним тупицей.
– А что-то было конкретное, из-за чего мы перестали встречаться семьями? – спрашиваю я, записывая «умственно отсталый» на полях блокнота, в котором делаю заметки.
– Мы с твоей матерью горшки побили.
– С моей матерью?
– Я знаю, ты ведь думаешь: «Она же из тех, с кем легко ладить», – но она у твоего папаши подхватила пару фокусов.
– А на тему, о чем побили горшки?
– Шарики мацы.
Я вскидываю на нее взгляд, думая, что она шутит. Лилиан смотрит на меня, будто хочет сказать: что непонятно?
– Поругались из-за шариков мацы, – повторяет она. – Класть их в суп или подавать отдельно? Воздушными их делать или плотными?
Я на нее смотрю, ожидая продолжения, ответа.
– Твоя мать думала, что вот как она думает, так и правильно, и что она потому настоящая еврейка, а я так, второй сорт. И, честно говоря, когда с одной стороны – твой отец, а с другой – вот такое вот, мне уже не слишком хотелось давать себе труд поддерживать контакт. Если мы с тобой не разговариваем, это еще не значит, что мы не разговариваем между собой.
Я собираюсь спросить, кто из родственников еще жив, когда она резко меня обрывает:
– И был еще тот инцидент с вами, детьми, в комнате отдыха. – Она снова на меня смотрит. – Ты правда тупой или все же прикидываешься?
Не зная, к чему относится вопрос, я не даю ответа.
– Твой брат сделал моему сыну операцию, – говорит она, будто давая подсказку, ключик, запускающий память.
– Операцию какого рода?
– Повторное обрезание с помощью циркуля, транспортира и клея «Элмерз».
Я что-то смутно припоминаю. Был какой-то еврейский праздник, и мы, дети, играли внизу. Смутно, как тридцативаттная лампочка, помню, как мы валялись на полу, на ковре, с нашими двоюродными, и шла жаркая игра в «Монополию», покупались и продавались дома и отели, и пока мы играли, мой брат с кузеном Джейсоном что-то делали за столом моего отца, непонятное что-то. Помню, я еще подумал, как это похоже на Джорджа – заставить кого-то для собственного удовольствия делать то, что он не обязан делать. Комната отдыха была наполовину игровой комнатой, наполовину кабинетом, и сторона, где кабинет, была закрыта шкафами с бумагами и белыми пушистыми коврами, и вряд ли я мог на самом деле видеть, что он там творит, но понятно было, что не подвиги добродетели.
– С Джейсоном все обошлось?
– Да, физических повреждений мало было – порез небольшой, полно крови, пришлось к пластическому хирургу обращаться, но теперь он гей.
– Ты хочешь сказать, что Джейсон стал геем из-за Джорджа?
– Ну стал же из-за чего-то? Геями не рождаются. Что-то происходит, какая-то травма, и человек превращается в гея.
– Тетя Лилиан, есть очень много геев, которые сказали бы, что они такими и родились, и на самом деле в теории что-то там важно насчет внутриутробных гормонов… – Я продолжаю, дивясь про себя, откуда мне это вообще известно. Наверное, какую-то статью читал. Но что бы я там ни говорил, для Лилиан и ее точки зрения это совершенно несущественно. – А как отреагировали на этот случай мои родители?
– Я им не рассказывала. Джейсон заставил меня поклясться, что я сохраню тайну, – ему было очень стыдно. – Джордж только потому перестал, что кто-то спустился проверить, как вы там.
– А кто это был? – спрашиваю я.
– Тетя Флоренс.
– И что она видела?
– Ничего она не видела, но Джордж испугался и бросил это дело.
– А что сказал ваш муж?
– Его не было дома, – отвечает она. – Поэтому еще только хуже было.
– А где он был?
– Хороший вопрос, – говорит она и ничего к этому не добавляет. – Оправданий нет.
– Никаких, – отвечаю я.
– В последний раз я тебя видела на похоронах твоего отца, – повторяет она уже сказанное.
– Можешь мне тут помочь в одном вопросе? – говорю я, вытаскивая генеалогическое древо. – Надо вот это заполнить.
– Заполнить генеалогическое дерево? Ты оплатишь мое время? Мне какое-то вознаграждение полагается?
– Я тебе борщ привез.
Она отмахивается и придвигается ближе, чтобы видеть анкеты и желтый блокнот с заметками.
– Сколько тебе лет, тетя Лилиан?
– Больше, чем кажется. Мне восемьдесят восемь, но, говорят, я выгляжу на семьдесят с хвостиком.
Мы вместе восстанавливаем наше генеалогическое древо. В какой-то момент тетя приносит пару старых семейных альбомов – вещественные свидетельства – и перелистывает страницы, что-нибудь бормоча над каждой.
– У твоего отца были крупные заскоки насчет мужественности.
– Ты хочешь сказать, что он сам был скрытым гомо?
Она приподнимает плечи, делает гримасу:
– Кто знает про кого-нибудь наверняка?
– Преступники в нашем роду есть? – спрашиваю я.
– А как же. Полно. Вот дядя Берни, которого закололи за карточным столом.
– Кто?
– Так никогда никто и не сказал.
– А что с тетей Беа было?
– Умерла, – отвечает Лилиан. – Ты знаешь, у нее было трое детей, и ни один из них не дожил до четырех лет. Диагноз ставили «внезапная смерть новорожденного», но мы с твоей мамой не шибко в это верили. Никого из вас никогда с ней наедине не оставляли.
– Ну, это уж как-то малоправдоподобно. У евреев детей не убивают – их только с ума сводят.
– Тут наследственное, – поясняет она.
– Что ты имеешь в виду?
– Вспыльчивость твоего отца. Ты что, такой святоша и не понимаешь? Ты думал, мама делала себе пластику носа? Это ее твой папаша двинул.
Я понимаю, о чем говорит тетя, и она совершенно права. У мамы был сломан нос, но я и правда думал, что это была случайность.
– С чего это он?
– Кто его знает? Иногда он просто психовал.
– Даже не думал такого.
– Родители вас с братом щадили и не рассказывали. Вот еще пример – твой дядя Лу, никчемник, все время пытался какие-то делать дела. И жена его, тоже мне цаца, она с бухгалтером синагоги крутила.
– Это тот, с бугорками? Похожими на волдыри или бородавки?
Снова я смутно вспоминаю.
– Это жировики у него были, и он был очень хороший человек, куда лучше твоего Лу, но все равно поступок не становится от этого правильным. Он был женат. Жена была косолапая и глухонемая, он ее в покер выиграл.
Я не могу удержаться от смеха.
– Не вижу ничего смешного. Он ее любил, очень о ней заботился, и детей у них было четверо.