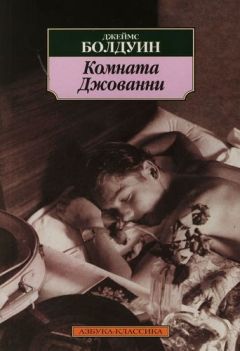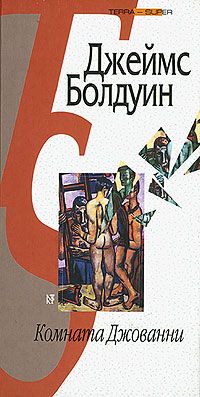– Но послушай, – сказал я Хелле, – ведь это была просто гнусная старая «фея». Больше он ничем не был.
– Откуда, думаешь, люди, читающие газеты, могут узнать об этом? Если он действительно был таким, то, я уверена, он не рекламировал это и вращался в очень узком кругу.
– Но ведь кто-то же знает об этом. Знают и некоторые из тех, кто несёт эту околесицу.
– Нет большого смысла в том, – сказала она сдержанно, – чтобы чернить покойника.
– А имеет ли смысл говорить правду?
– Они и говорят правду. Он принадлежал к очень важной семье и был убит. Я знаю, что ты имеешь в виду. Есть другая правда, о которой они не говорят. Но газеты никогда этого не делают – они не для того существуют.
Я вздохнул:
– Бедный, бедный, бедный Джованни.
– Думаешь, он это сделал?
– Не знаю. Очень похоже, конечно, что он. Он был там в ту ночь. Видели, как он поднялся наверх перед закрытием бара, но не помнят, чтобы он спустился.
– Он работал в ту ночь?
– Кажется, нет. Просто пил. Они с Гийомом вроде бы снова тогда подружились.
– Надо сказать, ты обзавёлся странными друзьями, пока меня не было.
– Они не казались бы такими странными, если бы один из них не был убит. Так или иначе, никто из них не был мне другом – кроме Джованни.
– Ты жил с ним. И не можешь сказать, совершил он убийство или нет?
– Ну и что? Ты живёшь со мной. Могу я совершить убийство?
– Ты? Конечно нет.
– А как ты знаешь? Ты не можешь знать. Откуда ты знаешь, что я такой, каким выгляжу?
– Потому что, – сказала она, наклоняясь и целуя меня, – я тебя люблю.
– Да? А я любил Джованни…
– Не так, как я люблю тебя.
– Я, если хочешь знать, может быть, уже совершил убийство. Что ты об этом знаешь?
– Почему ты так расстроен?
– А ты была бы расстроена, если бы твоего друга обвиняли в убийстве и он скрывался бы где-то? Почему тебя удивляет, что я расстроен? Чего ты от меня ждёшь – чтобы я распевал рождественские песенки?
– Не кричи. Я просто никогда не представляла себе, что он значит для тебя так много.
– Это был хороший человек, – ответил я. – Мне просто больно видеть его в беде.
Она подошла и мягко взяла меня за руку:
– Мы скоро уедем из этого города, Дэвид. И ты не будешь больше об этом думать. Люди попадают в беду, Дэвид. Но ты ведёшь себя так, будто во всём этом была и твоя вина. Но ведь это не так.
– Я знаю, что это не моя вина!
Но тон моего голоса и взгляд Хеллы заставили меня замолчать. Я с ужасом почувствовал, что готов разрыдаться.
Джованни не могли поймать почти неделю. Каждый раз, наблюдая из окна Хеллы поглощающую Париж тьму, я думал, что где-то там должен быть Джованни, может, под одним из мостов, что ему холодно и страшно, что ему некуда идти. Я надеялся, что он нашёл друзей, которые его прячут: было немыслимо, что в таком небольшом и кишащем полицейскими городе его не могут найти так долго. Иногда я боялся, что он отыщет меня, будет умолять о помощи или убьёт меня. Потом мне пришло в голову, что скорее всего он считает ниже своего достоинства просить о помощи меня и что он наверняка уже решил, что не стоит меня убивать. Я старался найти спасение в Хелле. Каждую ночь я пытался утопить в ней всю свою вину и страх. Необходимость делать что-то стала во мне подобна горячке, и единственной возможностью действия был акт любви.
В конце концов его поймали ранним утром на пришвартованной к набережной барже. До этого в газетах появились слухи, что он уже в Аргентине, поэтому всех ужасно удивило, что он не дошёл дальше Сены. Этот недостаток «дерзости» с его стороны не прибавил ему общественного сочувствия. Он, Джованни, был преступником низшего сорта, кустарём. Настаивали, например, на том, что ограбление было главным мотивом убийства. Но хотя Джованни и взял все деньги, бывшие у Гийома в карманах, он не прикоснулся к кассе и, кажется, даже не подозревал, что Гийом прятал в шкафу другой бумажник, в котором было более тысячи франков. Взятые деньги были всё ещё у него в карманах, когда его схватили; он не смог ими воспользоваться. Он ничего не ел два или три дня и был слаб, бледен и непривлекателен. Его лицо смотрело с газетных стендов по всему Парижу. Он выглядел молодо, растерянно, испуганно и порочно; будто он, Джованни, не мог поверить, что дошёл до такого, что дошёл и что ему больше некуда идти: его короткий путь обрывался под казённым ножом. Казалось, что он уже пятится назад, содрогаясь каждой клеточкой своей плоти перед этим леденящим кровь видением. И ещё казалось, как много раз до того, что он зовёт меня на помощь. Газеты поведали немилосердному миру, как Джованни каялся, молил о пощаде, рыдал и божился, что он не хотел этого делать. Они также смаковали детали того, как он это сделал, но не говорили – почему. Это «почему» было бы слишком черно для газетной полосы и слишком глубоко для Джованни, чтобы он мог объяснить.
Наверно, я был единственным человеком в Париже, кто знал, что он не хотел этого делать, кто мог прочесть между газетных строк, почему он это сделал. Я снова вспомнил, как нашёл его в тот вечер дома, как он рассказывал мне, что Гийом уволил его. Я снова услышал его голос, ощутил неистовость его тела, увидел его слёзы. Я знал его заносчивость, знал, что он считал себя débrouillard,[166] вне конкуренции, и представлял себе, как он ввалился в бар Гийома. Он должен был понимать, что тем, что он сдался Гийому, окончилось его ученичество, кончилась для него любовь, и теперь он мог делать с Гийомом всё, что тому угодно. Да, он мог делать с Гийомом что угодно, но – не мог перестать быть Джованни. Гийом, конечно, был в курсе всего. Жак должен был незамедлительно сообщить ему, что Джованни уже не живёт с le jeune Américain.[167] Возможно, что Гийом уже присутствовал на одной или двух вечеринках у Жака в окружении своих. И он, разумеется, знал, весь этот круг знал, что новообретённая свобода Джованни, отсутствие у него любовника должны обернуться возможностью и даже правом на беспутство, – ведь это уже случилось с каждым из них. Это должно было быть звёздным часом для всего бара, когда Джованни распахнул дверь.
Я представил себе их разговор.
– Alors, tu es revenu?[168] – должен был сказать Гийом, сопроводив это соблазняющим, язвительным и откровенным взглядом.
Джованни понимает, что ему не собираются напоминать о недавней безобразной сцене и что Гийом расположен дружески. Но в то же время лицо Гийома, его голос, манеры и запах действуют ему на нервы. Стоя перед ним, он старается не проклинать его в душе, но улыбка, которой он ответил на слова Гийома, чуть не вызвала у него самого рвоту. А Гийом, разумеется, ничего этого не видит и ставит перед Джованни рюмку.
– Я подумал, что тебе, может быть, нужен бармен, – говорит Джованни.
– А ты что – ищешь работу? Я думал, что твой американец уже купил для тебя нефтяную скважину в Техасе.
– Нет. Мой американец, – говорит он, проводя рукой по воздуху, – улетучился.
Они оба смеются.
– Американцы всегда летают. Они несерьёзны, – говорит Гийом.
– C'est vrai,[169] – говорит Джованни.
Он допивает свою рюмку, чтобы не смотреть Гийому в глаза, выглядит ужасно пристыженным и, возможно, начинает бессознательно что-то насвистывать. А Гийом уже не может отвести от него глаз и еле сдерживает свои руки.
– Приходи попозже, перед закрытием, и мы потолкуем об этой работе, – говорит он наконец.
Джованни кивает и уходит. Представляю себе, как он нашёл своих уличных дружков, как пьёт с ними, хохочет, набираясь храбрости, пока в мозгу тикают часы. Ему до смерти хочется, чтобы кто-нибудь сказал, чтобы он не возвращался к Гийому, не позволял ему себя лапать. Но дружки эти твердят, как богат Гийом, какой он старый и жалкий педик, сколько он сможет выкачать из Гийома, если поведёт себя умело.
И на бульваре нет никого, чтобы поговорить с ним, спасти его. Он чувствует, что гибнет.
Потом наступает время вернуться в бар. Он идёт туда один. Немного медлит у входа. Ему хочется убежать, скрыться. Но бежать некуда. Он всматривается в длинную тёмную кривую улицу, будто ищет кого-то. Но никого там нет. Он входит в бар. Гийом сразу замечает его и незаметно делает ему знак подняться наверх. Он идёт по лестнице. У него подгибаются колени. В комнате Гийома – среди шелка, цветастой мишуры и духов – он впивается взглядом в кровать.
Потом входит Гийом, и Джованни пытается улыбнуться. Они что-то пьют. Рыхлый и потный Гийом начинает проявлять нетерпение, и от каждого прикосновения его рук Джованни всё больше сжимается и отстраняется с отвращением. Гийом исчезает, чтобы переодеться, и возвращается в своём театрально роскошном халате. Он хочет, чтобы Джованни разделся…