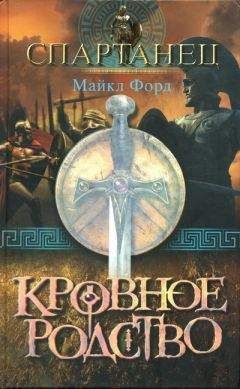БЛЕДНЫЙ КОНЬ, БЛЕДНЫЙ ВСАДНИК
Повесть
(Перевод Н. Волжиной)
Во сне она знала, что лежит на своей кровати, но не на той, куда легла несколько часов назад, и комната была другая, хотя эта ей почему-то помнилась. Сердце у нее камнем навалилось снаружи на грудь, пульс то редел, то исчезал вовсе, и она знала, что должно случиться что-то необычное, вот даже сейчас, когда легкий ветер раннего утра прохладой веял сквозь оконную решетку, полосы света казались темно-голубыми и весь дом похрапывал во сне.
Надо встать и уходить, пока в доме стоит тишина. А куда девались мои вещи? Вещи здесь самовольничают и прячутся, где им угодно. Дневной свет с размаху ударит по крыше и поднимет всех на ноги; улыбчивые лица вокруг, все будут допытываться у нее: «Ты куда собралась? Что ты делаешь? О чем думаешь? Как ты себя чувствуешь? Почему ты так говоришь? Что это значит? Довольно спать». Где мои сапоги и какую мне взять лошадь? Фидлера, или Грейли, или Мисс Люси — длинномордую, с дико косящим глазом? Как я любила этот дом по утрам, пока у нас не все еще встали и не перепутались, точно беспорядочно заброшенные лески. Слишком много людей родилось здесь, слишком много здесь плакали, слишком много смеялись, слишком много злились и терзали друг друга. «Слишком многие уже умерли на этой кровати, и куда такая уйма костей, оставшихся от предков на каждой каминной доске, и чертова пропасть всяких салфеточек на здешней мебели, — во весь голос сказала она, — а сколько тут накопилось всяких россказней о былом и не дает этой пылище осесть и полежать спокойно».
А тот незнакомец? Где он — поджарый, с прозеленью незнакомец, который, я помню, постоянно околачивался у нас, тот, кого привечали и мой дед, и двоюродная бабушка, и моя троюродная или пятиюродная сестра, и мой дряхлый пес, и серебристый котенок? Почему они так привязались к нему? И где они сейчас? А ведь вчера вечером я видела, как он прошел мимо окна. Кроме них что у меня было в жизни? Ничего. Своего у меня ничего нет, ничего, но этого достаточно, и это все прекрасно, и это все мое. А шкурка, в которой я разгуливаю, моя собственная или занятая у кого-то, чтобы пощадить мою скромность? Какую же лошадь мне взять в это путешествие, куда я не собираюсь отправляться, — Грейли, или Мисс Люси, или Фидлера, который перепрыгивает канавы в темноте и хорошо держит трензель между зубами? Раннее утро для меня лучше всего, потому что деревья — это деревья, каждое само по себе, камни — это камни, каждый лежит в тени, а тень — от травы, и никаких обманных очертаний, никаких домыслов, дорога все еще спит под непотревоженным покровом росы. Возьму Грейли, потому что он не боится мостов.
«Пошли, Грейли, — сказала она, беря его под уздцы, — мы с тобой обгоним и Смерть, и Дьявола. А вы на это не годитесь», — обратилась она к другим лошадям, которые стояли под седлом у ворот конюшни, и среди них конь незнакомца, тоже серый, с облезлыми носом и ушами. Незнакомец вскочил в седло, наклонился к ней всем корпусом и устремил на нее холодный взгляд, полный пустой, бездумной злобы, которая никому не угрожает и может терпеливо ждать своего часа. Она круто повернула Грейли и пустила его рысью. Он перескочил через низкую ограду из розовых кустов, через узкую канавку за ней, и пыль проулка лениво поднялась следом за дробью его копыт. Незнакомец легко, свободно скакал рядом с ней, держа ненатянутые поводья в сгибе пальцев, — прямой, элегантный, в темном поношенном одеянии, которое трепыхалось у него на костяке; на бледном лице застыла недобрая, судорожная улыбка; он не смотрел на ту, что ехала рядом с ним. «Да ведь я его когда-то видела, знаю я этого всадника, надо только вспомнить, где мы с ним встречались. Какой же он незнакомец!»
Она остановила Грейли, привстала на стременах, крикнула: «Не поеду я с тобой. Проезжай мимо!» Не задержавшись ни на минуту, не повернув к ней головы, незнакомец проехал дальше. Она чувствовала шенкелями, как Грейли носит ребрами, у нее у самой ребра тоже ходили сильно. «Откуда у меня такая усталость? Когда я наконец проснусь? Но сначала нужно отзеваться как следует, — сказала она, открывая глаза и потягиваясь всем телом. — И плеснуть холодной воды в лицо, потому что я опять разговаривала во сне, сама себя слышала. Разговаривать разговаривала, но о чем?»
Медленно, нехотя Миранда дюйм за дюймом извлекала себя из провала сна, ждала в оцепенении, когда жизнь начнется снова. В мозгу у нее возникло одно-единственное слово, бьющий тревогу набат, который напомнит ей на весь Божий день то, что она блаженно забывала во сне, но только во сне. Война, сказал гонг, и она тряхнула головой. Лениво болтая ногами со спадающими шлепанцами, она вспомнила, что на стол к ней в редакции садятся все кому не лень. Каждый раз, как ни придешь, кто-нибудь да сидит на столе, а не на специально поставленном рядом стуле. Сидит кто-нибудь, болтает ногами, глаза бегают по сторонам. Сидит, погруженный в мысли о своих таких важных делах, а сам каждую минуту готов ввязаться в любой разговор. «Почему они не садятся на стул? Вывесить мне, что ли, объявление на нем: “Ради Создателя, садитесь вот сюда!”».
Но не то что вывешивать такое объявление, она даже не хмурилась при виде своих гостей и обычно не замечала их до тех пор, пока они сами не старались попасться ей на глаза, преодолевая ее старания никого не замечать. «В субботу, — думала она, уютно лежа в ванне с горячей водой, — получу жалованье. Это как всегда. Во всяком случае, надеюсь, что как всегда». Ее мысли бродили в тумане непрестанных попыток справиться с осложнениями каждодневной жизни, как-то увязать их, свести концы с концами, потому что возможность выжить, уцелеть, как теперь стало ясно, зависит от цепочки всяческих уловок. «С меня причитается… сейчас посмотрим… жаль, нет бумаги и карандаша… Так вот, допустим, если я даже внесу сейчас пять долларов на заем свободы, то дальше не вытяну. А может, ничего, вытяну? Жалованье восемнадцать долларов в неделю. Столько-то за жилье, столько-то на еду, и надо бы еще купить кое-что, долларов так на пять. Останется двадцать семь центов. Ну что ж, пожалуй, вытяну. Нет, успокаиваться рано. Вот я и не успокаиваюсь и ломаю себе голову. А как дальше? Двадцать семь центов. Не так уж и плохо. Чистый доход. И вдруг мне прибавят жалованье, повысят до двадцати, тогда у меня будет оставаться два доллара двадцать семь центов. Но до двадцати прибавлять никто не собирается. Скорее всего, выгонят, если я не куплю займа свободы. Да нет, вряд ли. Надо спросить Билла. (Билл заведовал отделом «Городские новости».) Может быть, эта угроза просто шантаж? По-моему, даже члену комиссии Лоска[4] такое даром не пройдет».
Вчера с двух сторон от ее машинки болтались две пары ног, туго втиснутых в тесные брючины из темного, видимо, дорогого материала. Она еще издали заметила, что один из этих типов староватый, другой помоложе и у обоих какая-то несвежая значительность в облике, как бы взятая напрокат в одном и том же заведении. Оба они были на вид такие сытые, и тот, что помоложе, щеголял маленькими квадратными усиками. Как бы там ни было, но дело, с которым они пришли, явно не предвещало ничего хорошего. Миранда кивнула им, подвинула себе стул и, не снимая ни шапочки, ни перчаток, точно в спешке, протянула руку к пачке писем и к стопке бумаг, отпечатанных на машинке. Те двое не двинулись с места, шляп тоже не сняли. Наконец она сказала им:
— С добрым утром, — и спросила, не ее ли они ждут.
Мужчины сползли со стола, оставив на месте несколько смятых страниц, старший осведомился, почему она не покупает облигаций займа свободы. Миранда пригляделась к нему, и впечатление от этого человека осталось у нее неважное. Одутловатое лицо, толстые губы, глазки маленькие, тусклые, и Миранда удивилась, отчего это все, кого отобрали для работы на войну дома, почти все такого пошиба. Он может быть кем угодно, подумала она: антрепренером гастролирующих эстрадников, учредителем дутой нефтяной компании, бывшим содержателем пивной, рекламирующим новое кабаре, продавцом автомобилей — любым деятелем любого сомнительного предприятия. Но теперь он стал патриотом из патриотов, теперь он работает на благо страны.
— Послушайте, — спросил он ее, — а вам известно, что сейчас идет война?
Неужели ему нужен ответ на такой вопрос? «Спокойно! — скомандовала себе Миранда. — Этого следовало ожидать. Рано или поздно это случается. Не теряйся». Человек погрозил ей пальцем.
— Ну так как, известно или неизвестно? — повторил он, точно добиваясь ответа у заупрямившегося ребенка.
— Да, война! — подхватила Миранда тоном выше и чуть ли не улыбнулась ему. Это уже у всех вошло в привычку, это получалось как-то само собой, и, когда приходилось слышать или произносить такие слова, губы раздвигались в мистической, возвышенной улыбке. C’est la guerre[5]. Так даже лучше, независимо от произношения, и каждый, каждый раз надо было пожимать плечами.