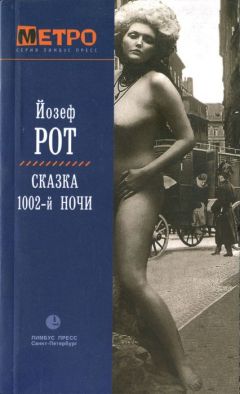Тайтингер вскочил.
— Господин полковник! — воскликнул он.
— Смирно, — скомандовал Ковак. А потом: — Вольно! Сесть!
Тайтингер вновь опустился на стул.
Полковник орал так громко, что его слышали во всех коридорах левого крыла здания. Адъютант, старший лейтенант фон Денгль, уже некоторое время стоял под дверью, держа наготове несколько дел и расписание дежурств на день, чтобы в любой момент, когда его застукают, иметь возможность сказать, будто он как раз сейчас собирался постучать. Начальник канцелярии вахмистр Штейнер и двое писарей слышали, сидя в смежной комнате, каждое слово, хотя все трое делали вид, будто погружены в реестры актов, сообщения о дезертирстве, доклады жандармерии и списки дисциплинарных взысканий. Даже во дворе и в столовой примолкли игравшие в карты унтер-офицеры. Прозрачно-стеклянный морозный воздух отчетливо доносил каждый звук из полковничьего рыка. Это был громоподобный глас казарменного божка, сопоставимый с неистовством самих стихий. Тотчас всем стало понятно, что речь идет о Тайтингере, и вовсе не только потому, что видели, как он вошел к полковнику, вовсе не только потому… Книжонки Лазика читали, Зеновер скупил их не во всех табачных лавках! Великий страх и столь же великая печаль овладели всеми, хотя барон Тайтингер всегда был безразличен однополчанам, потому что не вписывался в полк, не вписывался в захолустный гарнизон. Весь этот сельский люд родом из Буковины, из Словакии, из Батчка, никогда не видавший венских салонов, был, глядя на барона Тайтингера, твердо убежден в том, что его истинное место — в высшем обществе. Но благодаря той солдатской солидарности, которая, собственно говоря, и делает из эскадронов и полков семьи, из командиров — отцов или старших братьев, из подчиненных — сыновей, из рекрутов — внуков, из вахмистров — дядек, а из капралов — двоюродных братьев, они могли представить себе, какие страдания испытывает сейчас ротмистр Тайтингер. В столовой стало тихо, и карты, глянцевито отсвечивая, неподвижно лежали на столах.
Тем временем полковник неожиданно замолчал, но молчание его было еще ужаснее, чем только что отзвучавший крик. Ковак вычерпал до дна и свой словарный запас, и силу своего голоса. И полковник, и сам полковник, почувствовал холод и слабость в коленях, и ему пришлось сесть. Обхватив голову обеими руками и обратившись при этом скорее к разложенным на столе бумагам, чем к Тайтингеру, он сказал:
— Отставка, господин ротмистр! Отставка, говорю я! Не желаю суда чести! Слышите? Желаю сообщить, что вы подали в отставку. Полковой врач, доктор Каллир, — я уже переговорил с ним, — знает совершенно определенно, как плохи у вас дела со здоровьем. Ваши нервы расшатаны, вы потеряли рассудок. Отставка! Я не желаю перевода с понижением и с черной меткой в послужном списке, ясно вам, господин ротмистр?
Ротмистр Тайтингер встал:
— Так точно, господин полковник! Завтра я подам в отставку.
У полковника заболело сердце. Ему захотелось встать, но последние силы иссякли. Он протянул ротмистру руку через весь стол и сказал:
— Прощай, Тайтингер!
24
Всю ночь они просидели у Седлака, Тайтингер и счетовод в унтер-офицерском звании Зеновер. И как раз он, Зеновер, был оглушен тем, с какой молниеносностью сработала в данном случае судьба. Ибо и он, кухаркин сын, был вместе с тем плоть от плоти армии. И хотя ему были ведомы подлинные страдания в мире, который начинается за пределами казармы, он все равно не мог не оценить Тайтингерова горя, он все равно был опечален сегодня, как все вокруг, от полковника до новобранцев. Много, конечно, несчастий на земле. Но здесь несчастье было зримым и слышным, оно разразилось в казарме, в которой все спали, ели и жили. Еще вчера он мог что-то сказать ротмистру, объяснить, посоветовать, мог помочь ему. А сегодня у него пропал дар речи. Молча сидел и Тайтингер. Изредка лишь он ронял:
— Вы только представьте, дорогой Зеновер…
Но он и сам не знал, что, собственно говоря, должен был представить себе Зеновер. На стене тикали часы, их черные стрелки неустанно двигались по кругу, равномерно проскальзывая мимо цифр и не останавливаясь возле них, будто это были всего лишь минутные отметки, а вовсе не часовые; Тайтингер с Зеновером то и дело взглядывали на часы одновременно и, наблюдая за их неотвратимым ходом, ощущали чисто человеческое бессилие перед законом времени, равно как и перед всеми остальными законами природы, известными и неизвестными. Проходили часы, совокупность которых и образует жизнь человека. Один, два, три, если не все десять часов своей жизни Тайтингер нынче предал или потратил впустую: теперь уже ничего нельзя было исправить.
Ушли последние посетители, заметно убавился керосин в круглой стеклянной лампе. Двое за столиком распорядились принести свечи и подать еще вина, они не хотели уходить. Когда лампа выгорела до конца, стало видно серебряное мерцание снега за окнами. Морозный ветер тоненько и звонко пел в ночи, оконные стекла тихо позвякивали. Хотя Тайтингер с Зеновером не сказали друг другу ничего определенного, оба понимали, что им следует дождаться рассвета. Посреди ночи ни один из них не смог бы оставить другого в одиночестве. Они ждали.
— Я провожу вас, господин барон, — сказал наконец Зеновер. — Завтра вы возьмете отпуск. Я поеду с вами в Вену. Мне все равно давно уже нужно повидать своего друга, советника из министерства. Полагаю, что уже в январе я смогу держать экзамен на офицера.
— Да, конечно! — согласился Тайтингер.
Хозяин заведения Седлак дремал за стойкой. Иногда он бормотал во сне нечто неразборчивое. Зеновер заметил:
— У него благословенный сон!
Однако Тайтингер, совершенно не слушавший его, ответил:
— Да, у него отличное вино!
— А я больше всего люблю хорошее пиво, — признался Зеновер.
Потом опять стало тихо. Напрасно пытались они оба завести какой-нибудь легкий разговор. Говорили, не думая о том, что говорят, говорили просто так — лишь бы не слышать тиканья часов, — это были бессмысленные заклинания, бессвязные фразы, мелкий и ничего не значащий вздор. Две свечи растаяли уже до последней трети, когда снаружи, за окном, снег начал отливать синевой, пение мороза усилилось, небо побледнело. Зеновер подошел к стойке, разбудил Седлака, расплатился.
Они медленно пошли по направлению к городу, в казарму.
— Завтра я надену штатское — и навсегда! — сказал Тайтингер, когда они вошли в казарму и часовой отдал им честь. — Он отдает мне честь в последний раз, — подытожил он.
Ну и что за беда, подумал Зеновер, если тебе перестанут отдавать честь. Но тут же почувствовал, что это соображение несправедливо. У него на глазах заканчивалась сейчас целая жизнь. Подобно тому, как умирающий расстается с телом, военнослужащий навсегда снимает форму. Штатское существование было незнакомым, потусторонним и, не исключено, ужасным.
В девять утра был офицерский рапорт. «Отпуск по состоянию здоровья» Тайтингер получил тотчас же. Служебная записка полкового врача, доктора Каллигера, категорически удостоверяла опасное нервное расстройство. Это расстройство освобождало Тайтингера и от обязанности проститься с полком. Без двадцати три, после обеда, он, уже в штатском, сел в поезд; его сопровождал Зеновер. В шесть вечера они прибыли в Вену. Зеновер написал за Тайтингера прошение об отставке. В кабинетном зале отеля «Принц Евгений» Тайтингер переписал его своим служебным, крутым почерком, отступив на четыре пальца сверху и на три с краю. Подписался с особой тщательностью: «Алоиз Франц барон фон Тайтингер, ротмистр». Это совсем не было похоже на его обычную размашистую подпись, буквы он сейчас вывел осторожно и медлительно. И показалось ему, будто это вовсе не его имя, а он подписался чужим.
В вестибюле дожидался Зеновер. Он взял прошение и сделал вид, будто перечитывает его медленно и тщательно, перепроверяя каждое слово, — лишь бы не сразу поглядеть Тайтингеру в глаза. Наконец он сложил бумагу.
— Теперь я для вас больше не командир, Зеновер, — сказал Тайтингер.
Он вытащил из жилетного кармана золотые часы, купленные когда-то в ювелирном магазине, у Гвендля; на обратной стороне были выгравированы инициалы Гвендля и его дяди. Это был подарок дяди по случаю окончания племянником кадетского училища в Моравском Вайскирхене.
— Возьмите эти часы! — сказал Тайтингер.
Впервые в жизни он дарил что-то; кроме цветов и денег, ему ничего еще не доводилось никому вручать. Зеновер посмотрел на него долгим взглядам, вытащил свои — пузатые серебряные — и сказал:
— Возьмите эти, господин барон!
Потом, заметив, что Тайтингеру чего-то не хватает, что тот ждет чего-то, держа на весу в ладони серебряные часы, он добавил:
— Если вам понадобится друг…
— Я уезжаю сегодня в имение! — Тайтингер спрятал в жилетный карман часы. Сейчас он напускал на себя вид делового человека. — Вы ведь передадите прошение, не правда ли? И продайте обеих лошадей. Мне они больше не нужны. Пишите мне поскорее. Большое вам спасибо, дорогой Зеновер! Мой адрес у вас есть!