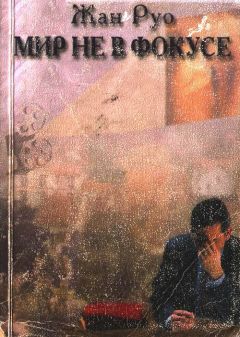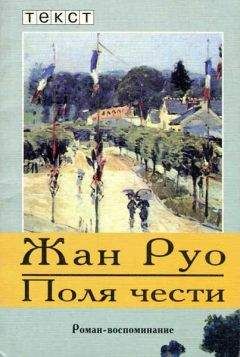Естественно, имя что надо, однако я не могу припомнить, чтобы во втором своем признании она называла его среди своих поклонников. В перечне местных имен такой экзотический штрих от меня бы не ускользнул. Может, утром ей просто не хватило времени вытащить его, как фокусник кролика из шляпы, да я и не вызывал этого «джина из бутылки», нажимая на звонок. Значит, она решительно хотела скрыть его от меня. Вот оно, третье признание? Но разве так уж стыдно, что у тебя любовник с Пиренейского полуострова? Или тогда — ничего другого мне в голову не приходило, — это внук Франко. Этим все разом и объясняется. Хвастаться тут, конечно, нечем. Признаться в подобном преступлении перед борцом за монго-аустенистское правое дело — все равно, что добровольно предстать перед народным судом, а народ у нас не миндальничает с классовыми врагами. Конечно, она круто рисковала: ее могли изгнать из ячейки или что-нибудь в том же духе.
И все же один момент во всем этом меня смущал. Быть может, стыдясь, — но она, очевидно, им дорожила, своим фалангистом, — посмотрев на него извиняющимся нежным взглядом, она взяла меня под руку и, отведя в сторону, на тротуар, принялась за объяснения. В чем дело, Тео? Я не дурак, и глаза у меня не в кармане, пусть я не очень хорошо вижу, но все же и не слепой. Вольно тебе путаться с душегубами, пролетарская революция сумеет распознать своих, но, когда монго-аустенистская идея просветит весь мир, я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы твою красивую голову не обрили, моя дорогая Тео. Или, может, мне случится подобрать твои срезанные пряди, чтобы спрятать в них лицо, вдохнуть их запах и, оплакивая мою прекрасную утраченную любовь, вспомнить благословенные часы той ночи, когда мы были близки. Не трудись, натягивая перчатки, объяснять мне то, что и без того яснее ясного, иди скорей к своему идальго и не беспокойся обо мне, у меня чудесные воспоминания, их мне надолго хватит. Имея гораздо меньшее — несколько смутных сценок вокруг милой утопленницы, — я ухитрился промечтать долгие годы. Представляешь, тем, чем ты меня одарила, я заполню целую вечность.
«Ты будешь мне рассказывать, как дела у Жана-Артюра?» — Обязательно, Тео, только, боюсь, ничем хорошим эта история не кончится, а его матримониальные планы, жениться на сестре товарища, канут в воду. Оставь меня, я должен выплакаться.
Прямо безумие какое-то, впрочем, на сей раз предлог был красив — любовные огорчения, во всяком случае, что-то подобное, — и слезы, можно быть уверенным, вполне обоснованные, не заставили себя ждать, ну и пусть сентиментальность все это, причина для них самая что ни на есть благородная. Льются, может быть, слишком обильно, словно ситуацией воспользовались пожарные, которые всегда готовы, по своему усмотрению, затушить полыхающее пламя, а кто поджигатель — неважно, будто их усердие выражает не более чем физиологическую потребность в разливании воды, будто им просто выпала такая удача, а в сущности, им глубоко безразлична моя боль. Внезапно из-за подозрения в неискренности, — может, это у меня всего-навсего профессиональный рефлекс великих трагических актрис? — я засомневался в своих чувствах. Ведь если даже я и докатился до того, что, медленно удаляясь от большого каменного дома, удрученный своей печалью, чувствовал себя потертым интриганом с разбитым сердцем и огрубевшей кожей, то все равно не должен был упускать из виду, что все происшедшее сводилась лишь к двум вечерам (о первом у меня не сохранилось никаких воспоминаний), обрамляющим день, который, в основном, был потрачен на борьбу с разрушительными последствиями адских смесей Жифа. Достаточно ли этого, чтобы выдумать себе целую историю?
Однако оставалась еще одна загадка: что такого я наговорил в алкогольном угаре, от чего красавица, несмотря на мое хамское поведение, выбрала меня в конфиденты? Какие такие сделал ей предложения, между двумя попытками сорвать поцелуй, что она решилась показать мне изнанку своей зачарованной грусти? Никто ведь не просил ее на следующий день, беспокоясь о моем здоровье, сопровождать Жифа до моей комнатенки и, более того, безропотно в ней прибраться, вычистив все следы вчерашнего безобразия. Каким бы это ни казалось невероятным, но она сама — она, Тео, черноокая, белогрудая — пожелала вновь увидеть меня, меня-то, Жана-Артюра в циклопических очках. Значит, в ее мыслях мне была отведена, хотя бы несколько часов, неожиданная роль долгожданного. В самую пору воспеть хвалу пьяной разнузданности, не беря, понятно, в расчет похмельный катаклизм, страшный лишь до следующего раза. Но, в конечном счете, естественно, мое естественное состояние ее разочаровало; разочаровывать — все равно что обворовывать, да и я — это не он, не идальго, например, так пусть он и торжествует. А мне не обязательно тащиться по улицам с понурым видом, выставляя на всеобщее обозрение свои пресловутые любовные страдания. Лучше поскорее улизнуть, тем более что я и не надеялся, что они будут провожать меня взглядом, пока я не заверну за угол, им ведь не терпелось остаться наедине, и я был почти уверен, что франко-испанская дружба сделала уже значительные шаги, благополучно миновав фатальную ступеньку.
Красноречивее, чем слезы, о крушении моих надежд говорила поспешность, с которой я ретировался, я все прибавлял шагу, пока наконец не побежал, и бежал все быстрее и быстрее, не сбиваясь с дыхания, наоборот, мне казалось, будто дышу я бесконечно мощно и ровно, а ногами едва касаюсь тротуара, как во сне, когда ощущаешь такую легкость движения, как в состоянии невесомости, взмывая на несколько метров, опираясь на воздух согнутыми в локтях расставленными руками, упершись ладонями в бедра, так и летя беспрепятственно над землей. Я настолько не чувствовал ни усталости, ни спазмов в горле, что не понимал, почему школьные кроссы запомнились, как сплошная агония. Улицы проносились подобно нарисованной панораме, разворачивающейся в кино за окном неподвижного автомобиля, вслепую я сворачивал то на одну, то на другую улицу, проскальзывая между машинами, перебегая запруженные дороги в неположенных местах, перепрыгивая через неожиданные препятствия — ящики перед бакалейной лавкой, — толкая на полном ходу слишком медлительных прохожих, не торопившихся уступить дорогу полупомешанному, который даже не просил посторониться, не извинялся и не обращал внимания на предупредительные гудки водителей, их проклятья, и вообще — ничего не видел.
Мой горизонт еще более сузился. Слезы застилали последние доли оставшихся у меня диоптрий, бег мой становился все хаотичней, размывались отблески впечатлений от действительности, а ведь с помощью этих светящихся точек я составлял обычно карту неба для своих земных нужд. Я бежал так быстро, что не мог сориентироваться, мир раскрывался по мере того, как обрушивался на меня, и мне казалось, будто я двигаюсь внутри кристалла с тысячей отражающих граней. Лицо Тео вставало между мной и этим миром зыбких мнимостей, но и оно было настолько затуманено, что для того, чтобы вновь обрести его, я мобилизовал всю свою память, а когда оно казалось навеки утраченным, делал все возможное, чтобы восстановить его по единственной точной черте, например, маленькой родинке, а потом уже набросать улыбку, прищур глаз, глубокий блеск ее взгляда, но вскоре все смешивалось, так что я начинал сомневаться в реальности происшедшего, подобно маленькой Бернадетте в монастыре Невера, не особенно уверенной, действительно ли она заметила высокую белую даму в гроте возле Массабьель, или Жанне, которая на судебном процессе не могла поклясться, что слышала трех посланцев Неба над деревом фей, и, вернувшись в свою холодную башню в Руане, наверное, терзалась вопросом, стоит ли идти на костер ради неясных голосов. Может быть, достаточно позаимствовать у Тео несколько штрихов, и этим питать свои мечты, как я это делал со своей утопленницей? Но с одной все-таки разницей: на этот раз у меня было весьма реальное доказательство — глубокая отметина, которую оставили на моем плече зубы красавицы, склонившейся надо мной, словно добрая фея. По крайней мере, это не подлежало сомнению. Из чего, однако, не следовало, что у этой истории будет продолжение. Может, у Тео просто такая привычка — метить, как вампир, своих воздыхателей. Не более того. Одурманенный грогом, с тяжелой головой после перепоя, который стал причиной многочасовых провалов в моей памяти, не исключено, что я все еще нахожусь под воздействием галлюцинаций. Скорее всего, я только начинаю приходить в себя после долгой туманной полосы, обретя наконец почву под ногами — асфальт на несколько сот метров вперед, который как раз и нужен моему нетвердому шагу.
Так и не сбавляя темпа, я скоро наткнулся на скопление народа, сквозь которое стал прорываться; несмотря на протесты, я пробивал себе путь среди людей, подныривал под сцепленные руки, пока внезапно не очутился на открытом пространстве — на широкой мощеной площади, где не было ни машин, ни пешеходов, и просто на удивление для такого часа пустынной; тогда я бросился поперек этой площади, чистой от каких-либо помех, будто мне предоставили достойную сцену для спектакля о муках утраченной любви. И тут, как это часто бывает, из-за какой-то несчастной песчинки рухнули мечты, все самые прекрасные конструкции моего ума: едва я успел удивиться такой аномалии — ну, ни пробок тебе, ни прохожих в самом обычно людном месте, — как, выбитый из замкнутого пространства своих мыслей, споткнулся о какое-то совершенно не предвиденное препятствие и со всего разлету грохнулся на брусчатку, улавливая на лету несущееся мне вслед рычанье, что-то вроде: и откуда здесь этот болван, или чокнутый, или кретин несчастный?! — во всяком случае, никак не уместное в таком случае, ведь куда разумней было бы справиться о моем здоровье — не поранился ли я? не сломал ли чего? — поскольку приземление на камни было суровым.