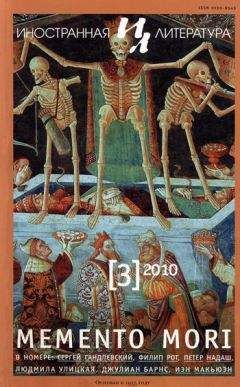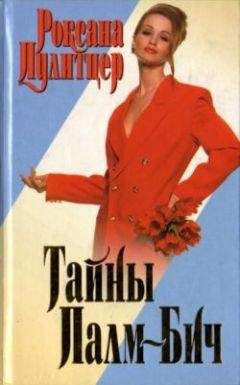Пока мы выпивали в гостиной перед обедом — Уолтер преподнес отцу бутылку шампанского, — я вспомнил, что отец упомянул этого своего приятеля несколько недель назад, когда я рассказал ему по телефону, что мои ученики в Хантере[45] закончили читать книгу Тадеуша Боровского[46] «Пожалуйте в газовую камеру» об Освенциме и книгу Гитты Серени «В ту темноту»[47] — о Треблинке. Чему я учу в университете, где профессорствую, отец понимал довольно смутно, время от времени он справлялся, что именно я преподаю, и я пытался ему это растолковать. После того как я рассказал об этих книгах, он сказал:
— У меня в «Y» есть приятель, так вот, он был в Освенциме. Пишет книгу о себе. Поразительный человек.
— Да?
— Как знать, вдруг ты сумеешь ему помочь.
— Мне бы самому себе помочь с изданием книг, больше меня ни на что не хватает.
— Но ты бы мог ему что-то подсказать.
— Пап, ну что я могу ему подсказать? В нашем деле подсказок нет.
— А как насчет Аарона Ашера?
— Что насчет Аарона Ашера?
— Он опять перешел в другое издательство? Или работает там же?
— Там же, в «Гроув».
— Повтори-ка его номер.
— Ну а этот твой приятель, он хотя бы дописал книгу?
— Я же тебе говорил — он над ней работает.
— В таком случае, почему бы тебе не подождать, пока он ее закончит, и тогда уж позвонить Аарону?
Больше я ни об Уолтере, ни о его книге не слышал, пока он не объявился на обеде, где отец, не теряя времени, стал подуськивать его:
— Уолтер, покажи, ну покажи ему свой номер.
Мы уже приступили к обеду, и, так как в это время Ингрид — она сидела между отцом и Уолтером (он присоседился ко мне) — через стол перечисляла Клэр и Рут, что она кладет в буйабес, отцу пришлось повысить голос, чтобы их переговорить.
— Покажи, покажи ему свой номер, — снова обратился он к приятелю.
Вечер был довольно теплый, Уолтер снял легкую спортивную куртку, повесил ее на спинку стула и остался в рубашке с короткими рукавами, так что ему было достаточно повернуть руку, чтобы я прочел цифры, вытатуированные на его предплечье. Показав мне номер, Уолтер сказал отцу:
— Ему наверняка уже случалось видеть такие номера.
Так оно и было. Родители моей невестки пережили Холокост. Я встречал узников концлагеря в Израиле и, конечно же, и в Нью-Йорке мне случалось видеть лагерные номера, притом нередко на руках самых разных людей. А когда за год до этого я присутствовал на проходившем в Иерусалиме процессе Ивана Демьянюка, по прозвищу Иван Грозный, охранника в Треблинке, мне довелось несколько недель кряду просидеть среди, как минимум, дюжины бывших узников. Самое же большое потрясение я испытал, увидев лагерный номер на руке итальянского писателя Примо Леви. В 1986-м я прилетел в Турин — сделать большое интервью с ним для «Нью-Йорк таймс», и, проведя вместе всего четыре дня, мы сошлись на удивление близко, настолько близко, что, когда мне настало время уехать, Примо сказал:
— Не знаю, кто из нас младший брат, а кто старший[48], — и мы бросились друг к другу так, точно расстаемся навек.
Так оно и оказалось. Мы долго говорили об Освенциме — Леви еще совсем молодым человеком провел там год — и о двух написанных им очень глубоких книгах о концлагере, что и стало главной темой интервью. Его опубликовали в книжном разделе воскресного выпуска «Таймс» за полгода до самоубийства Примо Леви — он бросился в лестничный колодец своего туринского дома, тот самый колодец, пять пролетов которого я пробегал в радостном предвкушении наших разговоров. Я гадал: могли ли Примо Леви и Уолтер Германн встретиться в Освенциме. Они примерно одного возраста и сумели бы объясниться по-немецки: Примо в надежде увеличить свои шансы выжить усиленно осваивал язык расы господ. Благодаря чему выжил Уолтер? Что освоил он? Как бы неумело и примитивно ни написал он свою книгу, я ожидал, что она будет о чем-то вроде этого.
На коленях у Уолтера лежал плотный коричневый конверт, как я понимал, рукопись. На протяжении обеда он, не прерываясь ни на минуту и чуть не тычась мне в ухо, повествовал о своем берлинском детстве, детстве мальчика из состоятельной семьи, о танцклассах, об уроках латыни, о своей матери — она чудом уцелела, об отце — его убили немцы; повествовал о том, как много он тогда читал — «Гейне», сказал он и поцеловал в знак восхищения кончики пальцев; сообщил, в каком восторге он от романов Франца Верфеля[49]. Затем рассказал, что ему удавалось несколько лет кряду укрываться в Берлине, пока нацисты, всего за несколько месяцев до конца войны, не поймали его и не отправили сначала в Бельзен, затем в Освенцим.
— В Берлине? — спросил я. — Как вам удалось укрываться в Берлине?
— Женщины. А всё женщины. В Берлине, кроме меня, не осталось мужчин. Мне было восемнадцать, девятнадцать. Всех немцев призвали в армию, евреев вывезли. Меня укрывали женщины. — Он игриво улыбнулся. — Я пишу не так, как Эли Визель или Сэмюэл Писар[50]. Эли Визель — это, я вам доложу, гений. Таких трагических книг мне не написать. В войну, пока я не попал в концлагерь, жизнь моя складывалась как нельзя более удачно.
Уолтер открыл конверт, лежавший у него на коленях, и извлек оттуда не рукопись — до нее очередь еще не дошла, — а для начала что-то вроде свидетельства, подтверждающего его право написать такую книгу. На льняную скатерть рядом с тарелкой буйабеса он выложил нечто похожее на выцветший клочок пергамента. Это было захватанное, потертое на сгибах удостоверение личности, которое ему выдали немцы в конце тридцатых. Я увидел, что в Третьем рейхе Уолтеру, как и всем евреям мужского пола, арийские власти дали второе имя — Израиль. С фотографии в углу удостоверения на меня смотрел парень лет примерно двадцати, субтильный, губастый, смуглый, слегка смахивающий на татарина и уж никак не Адонис. Я узнал в нем моего соседа, хотя снимок и был сделан полвека назад. При том что сегодня, когда ему перевалило за шестьдесят, Уолтер, как и любой почтенный, состоятельный джентльмен из Джерси, производил впечатление человека вполне в себе уверенного, мальчику на той полувековой давности фотографии, похоже, больше пристало бы сидеть в углу с книжкой Франца Верфеля, чем ублаготворять — одному парню на Берлин — всех тамошних немок.
Черные волосы, взбитые над низким лбом в кок, выпали через неделю после войны; выпали в одну ночь, сказал Уолтер, когда после освобождения из лагеря он свалился с тифом и чуть не умер. Еще в гостиной, едва — и двух минут не прошло — Уолтера представили нашей семье, как он стал излагать историю своей жизни, и я сразу понял: Уолтер не из тех узников, которые предпочитают схоронить свои воспоминания поглубже.
Перед тем как перейти к рукописи, он решил предъявить и другое свидетельство, подтверждающее его рассказ. Свидетельством этим, как он объяснил, была обертка пачки сигарет, на внутренней стороне которой он в Освенциме накарябал карандашом записочку своей матери. Мать его скрывалась где-то в Германии и переправить ей записку было не так-то просто. Тем не менее мать явно получила ее, сберегла и привезла с собой в Америку — иначе он не показывал бы нам в 1989 году в Нью-Джерси записку 1944 года, которая могла оказаться прощальной.
— Передай дальше, пусть все прочтут, — сказал отец, и документ Третьего рейха, удостоверяющий личность Уолтера, и его записка из Освенцима, клочок бумаги сантиметров в пять размером, перешли от меня к Клэр, а от Клэр к Сету и Рут, родившимся в 1957-м и 1961-м, соответственно, — их, похоже, они ошарашили не меньше, чем речистый незнакомец с номером на руке. Они передали документы Лил; Лил о снимке высказалась так:
— Уолтер, на этой карточке вы ну прямо ешива бухер, — и передала свидетельства отцу, а тот сказал:
— Он мне их уже показывал в «Y», — и передал их Ингрид — практичная Ингрид бесстрастно изучила каждый документ так, будто это предъявленный к оплате чек. В конце концов оба свидетельства вернулись к владельцу, он снова засунул их в конверт и следом за тем извлек, опять же не рукопись, а пачку сделанных уже в наши дни пол ароидных фотографий своих внуков, запечатленных на днях рождения. Снимки обошли стол, и лишь после этого Уолтер вынул из конверта с пяток страниц в прозрачной пластиковой папочке и вручил их мне.
— Я работаю на «Макинтоше», — сказал он. — А вы?
— Все еще на машинке.
Сказать, что Уолтер не обаял Клэр, — значит, ничего не сказать, и я это заметил, тем не менее по дороге домой я спросил, какое впечатление он на нее произвел, и она отозвалась о нем, как о законченном показушнике: из всех присутствующих на обеде только она следила за нашим с ним разговором. Мой отец — шпрехшталмейстер — норовил разговаривать со всеми разом, поэтому он то подключался к нашему с Уолтером разговору, то отключался, остальных же Уолтер интересовал не больше, чем они его. Я и сам не знал, как его трактовать: рвался ли он делиться своим освенцимским прошлым с каждым встречным-поперечным или его (так считала Клэр) подстегнул отец, посуливший, что его сын писатель — зря что ли он дает своим ученикам в колледже читать книги о концентрационных лагерях — окажет ему помощь.