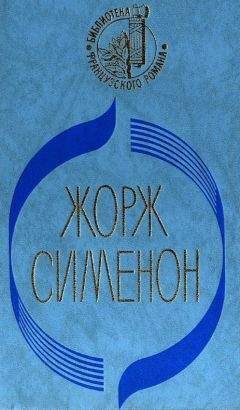— А что стало с водителем машины?
— Он оказался человеком со связями, так что ему удалось избежать огласки. Судья, которому передали дело, снял обвинения в убийстве и квалифицировал преступление как случайный наезд по неосторожности. Мне была положена компенсация — пятьдесят тысяч франков. Я отказалась, но мой адвокат сказал, что я буду ненавидеть себя за то, что не взяла деньги… тем более что его стараниями сумма может быть увеличена на пятьдесят процентов.
— Так ты приняла компенсацию?
— Семьдесят пять тысяч франков за жизни двух самых дорогих мне людей.
— И водитель исчез из поля зрения?
— Не совсем. Мир живет по странным законам. Спустя три недели после наезда дом Анри Дюпрэ подвергся ограблению. Это случилось среди ночи, Дюпрэ вспугнул грабителя, завязалась драка, и хозяин дома был заколот ножом в сердце.
— Ты почувствовала себя отомщенной?
— В этом что-то было, я так думаю. Тем более что Дюпрэ не слишком-то раскаивался в убийстве моей семьи. Его адвокаты сделали за него всю грязную работу, и я так и не дождалась хотя бы открытки с извинениями за то, что он совершил. Все, что я получила, — это чек.
— Выходит, у мести своя добродетель?
— Общепринятая мораль пытается убедить нас в том, что месть опустошает душу. Какой бред! Каждый хочет, чтобы зло было наказано. Каждый хочет «быть отомщенным». Каждый хочет того, что вы, американцы, называете «расплатой». И почему нет? Если бы Дюпрэ не убили, я бы всю жизнь прожила с мыслью о том, что он легко отделался. Тот грабитель оказал мне огромную услугу: он оборвал жизнь, не достойную продолжения. И я была ему благодарна. Но если уж договаривать до конца… Можно смириться с потерей мужа — как бы ты по нему ни тосковала, — но пережить смерть своего ребенка невозможно. Никогда. Смерть Дюпрэ не облегчила мои страдания, хотя и принесла какое-то мрачное удовлетворение. Уверена, тебя это пугает.
— Одна часть меня так и хочет сказать: «Да, я в ужасе…»
— А другая?
— Очень хорошо понимает твои чувства.
— Потому что ты тоже жаждешь мести?
— Мои страдания — ничто в сравнении с твоими.
— Это верно, у тебя ведь никто не умер. Но ты пережил крах своей семьи, своей карьеры. Твой ребенок с тобой не разговаривает…
— Ты мне уже напоминала об этом.
— Так же, как ты напоминаешь себе об этом каждый час, каждый день. Потому что так работает чувство вины.
Я встал и начал одеваться.
— Уже уходишь, так скоро? — игриво спросила Маргит.
— «Час колдовства» уже близок, не так ли?
— Верно, но еще ни разу ты не уходил, не выказывая недовольства. С чего вдруг такие перемены?
Я промолчал.
— Ответьте честно на этот вопрос, мсье Рикс. Человек — я полагаю, это мужчина, — который причинил боль… Не хочешь ли ты, чтобы ему воздалось по заслугам?
— Конечно хочу. Но я никогда не буду насылать на него кару…
— Ты слишком порядочный, — вздохнула она.
— Едва ли, — ответил я и добавил: — Увидимся через три дня?
— Ты дурак, если хочешь продолжать это.
— Да, дурак.
— Значит, через три дня, — сказала она, потянувшись за сигаретой.
В ту ночь, пока я сидел за столом в своем бункере, в моей голове без конца прокручивался рассказ Маргит. Трагизм этой жуткой истории, лишний раз подтверждающей, что жизнь может оборваться в любой момент, потряс меня. Теперь я понимал, почему Маргит держит дистанцию, почему она так сдержанна, если не считать приступов страсти, охватывающих нас обоих. Чем больше я думал об этом, тем яснее осознавал, насколько глубоко ее горе. Маргит была права: после таких событий невозможно оправиться. Мы можем лишь приспособиться к чувству утраты, но не можем подавить его. Наглухо запереть свою боль, избавиться от нее никому еще не удавалось…
К утру моя смена не закончилась — это была первая ночь двенадцатичасового марафона, на который я согласился ради выходного. Лишние шесть часов показались вечностью. Я с трудом заставил себя написать еще тысячу слов. Потом прочел пятьдесят страниц из Сименона, потом сделал несколько приседаний на бетонном полу в попытке восстановить кровообращение и хоть как-то пробудить мозг. Посетителей было больше, чем ночью. При дневном свете я мог разглядеть их лица, хотя они опускали головы, когда произносили пароль. Все — мужчины турецкого происхождения. Так кто же такой мсье Монд? Тот, кого тебе лучше не знать.
Когда я вышел на улицу, солнечный свет ослепил меня. Домой я плелся без привычных круассанов. Дома я провалился в глубокий пустой сон, поставив будильник на семь вечера. Проснулся я с мыслью о том, как изменилось все мое существование: ночная работа на неведомого мне мсье Монда, раз в три дня встречи с непонятной подружкой, и вот теперь — выходной, который скорее всего будет отмечен бессонницей, поскольку я уже втянулся в режим дневного сна.
Вечером я поспешил в кинотеатр «Гранд Аксьон» на улице дез Эколь, чтобы успеть на сеанс в четверть девятого (показывали фильма Стэнли Кубрика «Спартак»), Когда в половине двенадцатого сеанс закончился, в голове настойчиво стучала мысль: Маргит живет всего в пяти минутах ходьбы отсюда. Отгоняя ее, я зашел в мексиканскую закусочную на бульваре Сен-Жермен, подавали гуакамоле (я съел его аутентичный) и потрясающий коктейль «Маргарита». К этому были добавлены энчилады, которые отлично пошли под пиво из Богемии. Еда обошлась мне в пятьдесят евро, но я даже не поморщился, расставаясь с такой суммой. В конце концов, я отработал двенадцать часов, и в перспективе у меня была первая свободная ночь за два месяца. После закусочной я заглянул в табачный киоск, купил «Кохиба Робусто» и двинулся вдоль Сены, попыхивая дорогой кубинской сигарой. Так я добрел до Шатле, где вдоль улицы Ломбар тянулись джаз-клубы. Поскольку было уже полвторого ночи, вышибала впустил меня в «Сансайд», даже не слупив двадцать евро за вход. В клубе я опрокинул пару виски, слушая «так себе» певицу — худую, с шапкой кучерявых волос и слабеньким голосом. В сопровождении бэк-вокала она выдавала стандартный набор из Эллингтона и Стрейхорна. Когда клуб опустел, я пешком двинулся в сторону Десятого округа. Было уже глубоко за два. Этот уголок Парижа был пустынным, если не считать клошаров, привыкших спать на улице, и редких подвыпивших прохожих вроде меня. Я шел по бульвару Севастополь по направлению к дому. У станции Шато д’О на меня с опаской покосилась компания африканцев, видимо приняв за копа. Я напрягся, ожидая стычки, но все обошлось. Улица де Паради встретила меня опущенными ставнями — турецкие кафе для работяг давно закрылись. Так же, как рестораны для bobos. Редкие уличные фонари отбрасывали свет на мостовую. Тишину ночи нарушало лишь цоканье моих каблуков… пока я не расслышал впереди ритмы дерьмовой поп-музыки, доносившиеся из моего бара.
— Когда я вошел, барменша — турчанка в короткой юбке, такой же тесной, как и джинсы, что она обычно носила, — налила мне кружку пива, потом отвернулась, достала два стакана и бутылку, плеснула в стаканы прозрачную жидкость и добавила по капле воды. Когда жидкость помутнела, она подняла свой стакан и сказала:
— Serefe.[120]
— Serefe, — ответил я, поднял свой стакан, чокнулся ней и залпом выпил жидкость, на вкус напоминающую пастис. Желудок тотчас полыхнул огнем. Чтобы затушить его, я глотнул пива.
Барменша улыбнулась.
— Ракия, — сказала она, наливая следующую дозу. — Опасно.
Ее звали Янна. Она была женой хозяина Недима, того самого парня с татуировками. Как оказалось, два дня назад он уехал в Турцию, чтобы помочь с похоронами какого-то дяди.
— Когда выходишь замуж за турка, будь готова к тому, что они вечно хоронят каких-то дядьев, или же строят заговоры против тех, кто осмелился сказать дурное об их семье, или…
— Вы не турчанка? — спросил я.
— Разве что по крови. Мои родители из Самуна, но они эмигрировали в семидесятых, а я родилась уже здесь. Так что я француженка, но, если ты родился в турецкой семье, тебе не вырваться из ее тисков. Вот почему все кончилось тем, что я вышла за Недима — своего троюродного брата и… полного дурака.
Она снова чокнулась со мной и выпила ракию. Я последовал ее примеру.
— Ракия хороша только в одном случае, — сказала она. — Если хочешь напиться…
— Время от времени всем нам хочется напиться, — ответил я.
— Tout a fait, monsieur.[121] Но у меня вопрос. Омар — ochon[122] — говорит, что вы американец.
— Так и есть.