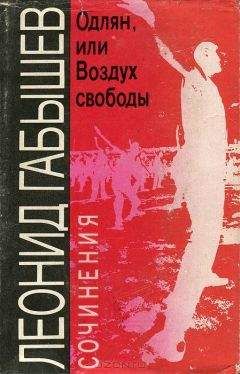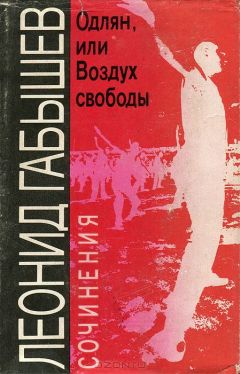Антон букварь — из отделения начальных классов. Бугор букварей, Томилец, возненавидел Антона и за любое мелкое нарушение дуплил его.
Общее, что было у Глаза и Антона, — это желание любыми средствами вырваться из Одляна. Глаз был скрытный и Антона в свои планы не посвящал, а тот ему, веря и надеясь, рассказывал все.
Антон хотел бежать из колонии и спросил Глаза, согласен ли он рвануть вместе с ним.
— Согласен, — ответил Глаз, — но как убежишь? Днем через запретку не перелезть — сразу схватят. Да и ночью тоже. Ведь на вышках сидят. Если бы за зону вывели. Убежать надо надежно, чтоб не сцапали, а то — толчок. Осенью, говорят, будут водить на картошку. Может, оттуда и рванем…
— У меня нога к тому времени заживет. Да и в лесу можно жить, картошку печь. А вообще-то надо бы на юг смыться. Там тепло. В общем, давай, Глаз, решим так; если осенью выведут на картошку и будет случай — рванем.
— Договорились.
Глаз на побег мало надеялся. Но все же, чем черт не шутит, может, и подвернется случай. И тогда — свобода. Хотя ненадолго. А когда поймают — пусть через неделю, пусть через две, — в Одлян возвращать не будут, а добавят срок и отправят в другую колонию.
А пока хотя бы в колонийскую больничку попасть. Они перебрали все способы, от которых можно закосить, но многие мастырки колонийским врачам известны, и Антон предложил новый способ:
— Давай, Глаз, поймаем пчел и посадим на себя. Будет опухоль. В санчасти скажем, что на работе зашибли.
Глаз согласился, но тут же уточнил: сперва в санчасть пойдет один, а то у двоих будет одинаково. Могут догадаться.
— Ты куда думаешь пчел посадить?
— Да на руку.
Перед седьмым отрядом была разбита клумба. Антон и Глаз поймали по пчеле и, держа их за крылышки, приложили к руке. Пчела ужалила, оставив шевелящееся жало. У Антона рука чуть опухла, а у Глаза — нет.
— Может, Глаз, это потому слабо, что мы жало быстро вытащили.
Они поймали еще по пчеле. Теперь жало долго не вытаскивали. У Глаза опять не вздулось, а у Антона прибавилось немного.
— Нет, — сказал Глаз, — тебя, Антон, с такой опухолью от работы не освободят. Надо на какое-то другое место садить.
— Я придумал! Знаешь куда? Я посажу сразу несколько пчел на яйца. Они-то сходу опухнут. В санчасти скажу, что пнули.
Поймали по пчеле. Огляделись, не наблюдает ли кто. Антон сел на траву и расстегнул ширинку. Посадив двух пчел и, не дожидаясь, сильно ли у него опухнет, поймали еще одну…
Вечером Антон пошел в санчасть, и хотя была опухоль, освобождение от работы не дали. Он, подойдя к Глазу, ругал колонийских врачей.
— Все равно. Глаз, я их обману. Мне на этапе один интересную мастырку рассказал. Закошу на триппер.
— Ты давно на свободе не был. Скажут: где подцепил?
— Я же только с этапа. Скажу: может, в бане.
— Что за мастырка?
— Спичку надо вставить серой в канал. С другого конца поджечь и терпеть, пока будет гореть. Когда догорит до серы, вспыхнет и обожжет. Понял?
— Понял. Но терпеть надо. Вытерпишь?
— Конечно. Когда окурками выжигал, больнее было. А здесь больно будет секунду. Пошли.
Антон и Глаз сели на траву. Антон сказал:
— Закрой от ветра.
Огонь медленно полз к Антошкиному концу. Стало больно. Антон терпел. Огонь приблизился к каналу, и сера вспыхнула. Но сера была чуть-чуть влажная и вспыхнула вдругорядь. Стиснув зубы, Антон даже не ойкнул. Вытащил сожженную спичку, застегнулся и закурил.
— Когда загноится, — сказал он, — пойду в санчасть.
Дня через два Антон покатил в санчасть. Загноения, правда, не получилось. «Но ничего, — думал Антон, — все равно должны триппер признать».
— Так, что у тебя? — спросила медсестра.
Антон помолчал, глядя на медсестру, женщину средних лет. Неудобно говорить, но он выдавил:
— Член у меня болит.
Кроме медсестры, в медкабинете находилась женщина в гражданской одежде. Она сидела в стороне. Антон на нее покосился.
— Ну, — сказала медсестра, — показывай.
Антон расстегнул брюки.
— Это у тебя от онанизма, — засмеялась сестра, поглядев на свою подругу, — посмотреть бы на твое лицо, когда занимаешься. — И засмеялась опять.
Она смазала его какой-то мазью.
— Бинтовать не будем. Все равно бинт спадет. Ходи, каждый вечер смазывать будем, и быстро заживет.
Теперь по утрам он с трудом оправлялся. За ночь образовывалась короста и струя с трудом ее прорывала.
В санчасть Антон ходил недолго. Стеснялся медсестры. Недели через две все зажило.
Приближалась родительская конференция. Ребята писали домой, звали родителей приехать. Во время конференции — она проходила раз в год — родители ходили по зоне.
Глаз еще не писал, все откладывал, а писать пора. Оставался месяц. И он сказал Антону, что к нему, наверное, приедет отец.
— А ко мне мать не приедет. В отпуске была. Да и денег нет. Работает техничкой и брат маленький. С кем оставит?
С мужем мать Антона разошлась.
— Глаз, а я все же думаю из колонии вырваться, — говорил Антон. — Я первому секретарю нашего райкома написал несколько писем и отправил через шоферов. Одно письмо — еще из больнички. Ругаю его матом, стращаю, что как освобожусь — замочу. Каким матом я его крою, ты почитал бы!
— А зачем?
— Как зачем? Надоест письма получать — отнесет в милицию. Они меня за хулиганство и угрозы — к уголовной ответственности. Вызовут. Раскрутят. За мелкое хулиганство добавят год. Зато я из Одляна вырвусь. Прокачусь по этапу. В тюрьме посижу. А там и на взросляк.
— А не боишься, что первый секретарь райкома письма в колонию перешлет, и тогда с тобой здесь будут разбираться? Прикажет хозяин на толчок сводить. И отнимут полжизни. Я тебе не советую такие письма писать.
— Да не пошлет он их сюда. Откуда он знает, что меня за это могут избить? Нет, я рассчитываю — он письма в милицию отнесет.
Солнце садилось. Около пятого отряда — а он стоял напротив седьмого — вор Каманя в окружении шустряков играл на гитаре и пел песни. Глаз, остановившись невдалеке, слушал. Песни брали за душу. К Глазу подошли пацаны.
По бетонке, шатаясь, шел вор первого отряда Ворон.
— Смывайся, Глаз, — сказал Антон, — он пьяный любит моргушки ставить.
Парни быстрым шагом пошли в отряд, а впереди них понесся Ротан — так кликали парня. В отряде он ел больше всех и всегда — голоден. Глаз шел медленно.
— Стой! — крикнул Ворон.
Глаз мог ломануться. Вор за ним не побежит. Но Глазу все надоело. Он знал, что пацаны после двух моргушек Ворона отрубались. Глаз остановился.
— С какого отряда? — спросил Ворон, подойдя.
— С седьмого.
Ворон сжал руку. Сейчас закатит моргушку. Но он, разглядывая Глаза, медлил и, разжав руку, спросил:
— Как у тебя кликуха?
— Глаз.
— Глаз, я сегодня пьяный и обкайфованный, хочу кому-нибудь пару моргушек закатить. Но тебе не буду. — Ворон помолчал, глядя на Глаза, и спросил: — Кайфануть хочешь?
— Хочу.
Ворон протянул кайфушку.
— Кайфуй, Глаз, кайфуй.
Глаз двинул мимо отряда в толчок, на ходу вдыхая пары ацетона. Перед глазами пошли оранжевые круги. «Так, хватит, — подумал он, — а то на построении заметят». В туалете Глаз выбросил бумагу, а вату положил в карман. Решил кайфануть после отбоя.
По дороге в отряд Глаз приложился к вате, боясь, как бы пары ацетона не выдохлись, пока будет проходить вечерняя поверка. Но она прошла быстро, и Глаз, разобрав постель, с головой нырнул под одеяло, и стал кайфовать. Ацетон почти выдохся, и кайфовать было неприятно. Но Глаз неплохо заторчал и стал думать, как ему обмануть всех рогов, воров и Кума, вырваться из Одляна.
Обкайфованному Глазу приходили дерзкие мысли. Ему хотелось подпалить барак. Пусть сгорит, а отряд расформируют. В другом отряде житуха, быть может, будет лучше.
В седьмом отряде перед родительской конференцией решили разучить новую песню. Воспитатель Карухин предложил марш «Порядок в танковых войсках». Ребята выучили песню за день. На репетицию их собрали в ленинской комнате.
Роги, бугры, шустряки разбежались по зоне. Остальные — чуть больше отряда — встали, как в строю, по четыре человека. Разучиванием песни руководили воспитатель Карухин и рог отряда Мехля.
— Ну, — сказал Мехля, — приготовились… Запевай!
Ребята недружно затянули:
Страна доверила солдату
Стоять на страже в стальных рядах…
— Отставить! — приказал Карухин. — Вы что, строевую разучиваете или покойника отпеваете? Приготовились. Начали!
Получилось чуть живее. Спели первый куплет.
— Отставить! — резанул рукой Карухин. — Вы что, в самом деле на похоронах? Веселее, говорю, а не мычать… Передохнули. Расслабились. Три-четыре!