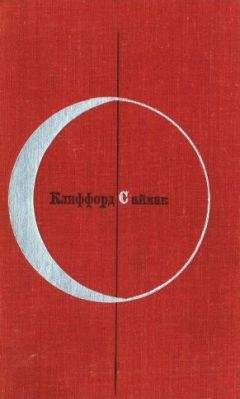– Нет.
– Вам верили?
– Меня никогда не спрашивали. Никогда не спрашивали. Некоторые говорили: вы верующий человек? Нет. Стоп.
– По-русски – “до свиданья”. Знаете, ваша позиция…
– Я грубой реалист. (Слово “грубой” он услышал от меня, при первой встрече, и оценил, и сразу взял в оборот – например, говоря о Кагановиче; это бабелевское слово, какой-то биндюжник-еврей в его “Одесских рассказах” – “грубой”).
– …то, что вы говорите, это очень привлекательно. В самой такой честности есть очаровывание…
– Я же грубой реалист. То есть без воображения – тот, кто так может говорить. У меня довольно мало воображения.
Метафизического воображения у меня нету. Что люди имеют его, это ясно.
– Что, что? Что люди…
– …что у людей есть метафизическое воображение. Или – богословское воображение. Без этого эти мысли б не входили в человеческие головы. Люди верят, что есть кто-то там – кому я молюсь. Есть кто-то там, который создал мир. Не может быть, чтобы весь этот мир, с его правилами, с его, понимаете ли, замечательными вещами, что, понимаете ли, ласточка – это просто результат какой-то случайности. Не может быть. Только какой-то индивид мог… кто-то – должен был это изобрести. Без этого не могло быть. Я понимаю, что эти люди говорят, я только не верю”.
В одной-единственной вещи архимандрит Эссекского монастыря
Софроний и феллоу Колледжа Олл Соулс Исайя Берлин совпадали, но вещь была центральной, главнейшей. Софроний любил повторять: “Я основывал монастырь православный – а не английский, не греческий, не русский, не румынский”. Берлин “имел проблемы” не только с верой в Бога: “То же самое с разными философиями, в которые я не верю. Я не верю в Гегеля, я не верю в – я не знаю – в Фихте, я не верю во всяких немецких метафизиков, это тоже, понимаете ли, такие миры, которые они вообразили, но я просто… для меня они не существуют”. Оба стояли только на том, что вызывало у них доверие полное, без малейшего изъяна и сомнения, для обоих первостепенный смысл имела неопровержимость: для одного – Веры, для другого – Опыта. Для того и для другого важна была суть, а не ее разновидности.
Может быть, спрашивая Берлина, были ли среди людей, знавших его достаточно близко, такие, что “не верили, что он не верит в
Бога”, я объявлял прежде всего о себе, о затруднительности так, сразу отказаться от его образа, в который, как казалось, религиозность должна входить само собой разумеющейся компонентой. Я искал союзников, хотел, чтобы еще кто-то подтвердил, что у меня были основания в этом ошибиться и даже есть вероятность, что тут ошибка обоюдная – его так же, как моя.
В конце концов, убедительно объясняя себе и всем, почему абсолютно невозможно любить кого-то, сам в глубине души знаешь, что нет, не абсолютно, не стопроцентно, что наедине с собой случалось думать о нем с любовью; и что, не веря в неизвестное, в Белого Кита или в Потоп, поглотивший весь мир, все-таки и веришь тоже. В конце концов труднее всего поверить именно в то, что можно, двигаясь путем Экклезиаста, прожить жизнь и без депрессий, и без Бога. Поэтому я цеплялся, искал опровержений хотя бы косвенных.
“- А был у вас когда-нибудь период или момент, когда вам не хватало Бога? когда вы чувствовали некоторую боль по этому поводу?
– Нет.
– Никогда?
– Никогда. Это вас шокирует.
– Да нет, Исайя, нет, я только…
– Когда шокирует, так шокирует.
(Если ты – говорили эти слова – вызываешь меня на такую откровенность и ждешь от меня признаний о моих душевных переживаниях, изволь и сам откровенно признаться.)
– Не то чтобы шокирует, а…
– Нет, я вижу, вас это шокирует как следует.
– Скорее внушает тревогу, какую-то тяжесть…
– Думаю, что шокирует. Он никогда не нужен был мне.
– Никогда не нужен… А вы как-нибудь объясняли себе боль, которая существует на свете?
– Боль?
– Боль.
Он проговорил печально: – Да; да, конечно. Но… есть боль.
Почему она – но она есть. Вопрос “почему?” значит: кто это назначил? Кто это сделал? Для чего это было сделано? Раз для чего, так кто-то этим орудует. Я не верю в это использование…
Поэтому я, правда, понимаю мир, как он есть. То, что есть, есть.
– И вы никогда не завидовали людям, которые?..
– Цель – это всегда человеческая цель. Цели только мы имеем.
Цель вся в том, для того, чтобы мы это построили. Цель стола – это то, что мы так устроили все вещи для пользования ими. А цель мира – ничего не означает.
– А то, что время идет только в одну сторону, это что-то означает?
– Нет,- сказал он,- не означает.- И заговорил о “факте”, brute fact, “грубом, но факте” движения времени в одном направлении. Так оно есть. Переменить нельзя.
Я продолжал его “уличать”.
– А отсутствие, как вы утверждаете, у вас воображения никак не сказывалось на вашем восприятии искусства – которое, согласитесь, все-таки достаточно вообразительно?
– Не знаю – вероятно, как-то сказывалось: я не знаю как.
– Когда вы читаете стихотворение, посвященное вам, и там натыкаетесь на строчку “Как отторгнутые от земли, высоко мы, как звезды, шли”…
– Да, да.
– …вам это не говорит ничего?
– Говорит.
– А что?
– Говорит то, что там, за этим стоит. То, что стоит. Это не факт, это не является, понимаете ли, statement of fact, изложением факта. Это является словами, которые производят во мне известное впечатление. На меня накладывает, делает известное впечатление. Я реагирую на это.
– А не то чтобы это взаимодействует с вашим воображением?
– Нет, ну не знаю. Я не знаю, что такое воображение, я не уверен. Ну, конечно, да, но это не значит, что мне это открывает какой-то мир. Ну, конечно, на меня это производит глубокое впечатление – поэзия, такая поэзия. Так же, как Библия.
Замечательные вещи там есть. Это поэзия. Но это не описание мира. Не моего мира.
– Известно, что из искусств вы отдаете предпочтение музыке…
– Он не прав все-таки, Бродский. Что то, что невыразимо, того нет. Вот вы меня спрашиваете: вот есть строчка поэзии, на вас производит впечатление. Ну хорошо, выразите это впечатление.
Объясните его, опишите, что это вам говорит. Я не могу. То есть как вы не можете? – все то, что вы думаете, вы думаете словами.
Как же у вас слов недостаточно? Вероятно, недостаточно: я знаю, что что-то я чувствую. Чувство – это не то же самое, что мысль.
Это чувства. И вся этика – это чувства. Чувство добра и зла, чувство этого и этого. Вы спрашиваете: что такое добро и зло? это факты? это – можно это найти? Найти где-нибудь тут около?
Можно ложкой это поднять? Нет. Что такое добро? Об этом этика и есть. Ей это нужно объяснить. “Это то, что люди хотят”. Нет, не совсем. “То, к чему люди стремятся”. Не всегда. И так далее. В этом философия и есть. Что эти слова означают. Это очень нелегко. Но в конце концов можно просветить, есть какой-то свет.
До конца – мы не дошли бы. Какая разница между добром и злом – скажите двумя словами. Я не могу.
– Но вам неинтересно знать, например, почему стоят два совершенно одинаковых человека и один из них говорит…”
Разговор происходил за ланчем, и дворецкий, появившийся в эту минуту в дверях, спросил, нести ли кофе. “Где будем пить кофе, обратился ко мне Исайя,- тут или в кабинете?
– Тут, там – все равно.
– Тут лучше.
– …два одинаковых человека, один говорит: “Вот ласточка вьется перед окном”,- и на вас это не производит никакого впечатления, а второй человек – Осип Мандельштам, он говорит: “Слепая ласточка в чертог теней вернется”, и мы чуть ли не плачем.
– Так.
– Вам не хочется это объяснить?
– Нет. Я не понимаю – я это чувствую. Я этим могу восторгаться.
Но объяснить?..
– Нет, не объяснить. Не образ и не строчку, ни в коем случае. Я тоже нет, но почему поэт…
– Один говорит это, а другой…
– Почему одному удается сказать, а другому нет?
– Кто это знает? Человеческая душа – потемки, как говорили в
России. Нет, нельзя объяснить. Это значит какой-то недостаток чего-то. Недостаток чув… известной… какой-то связки чувств.
Назовите воображением.
– А вот то, что у древних: поэт – это тот, проходя через кого язык преобразуется таким образом, что из профанного слово становится священным, священным – вы не хотите это принять?
– Я не знаю, что такое святое. Священное – мне ничего не говорит.
– Would you prefer coffee with milk? – спросил дворецкий.- С молоком?
– Без молока, половину чашки.
– Сахар?
– Да, коричневый.
– “Что вы предпочитаете?” – повторил Исайя по-русски, и это почему-то развеселило его,- ну да… Не знаю, что это, когда говорится “свято”, “священное”. Вы понимаете эти слова. Значит, люди к этому относятся известным образом. Преклоняются перед этим. Ожидают, может быть…
– Почему, если я говорю: “Я бы хотел поставить себе памятник”, а Гораций говорит: “Exegi monumentum aere perennius”,- почему мои слова остаются профанными, а его становятся неотменимыми? Вы не хотите этого знать?