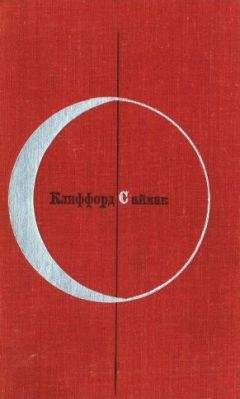– Я не могу этого знать, я не знаю, как это знать и кто знает.
Кто может мне объяснить. Если я хочу знать, я хочу, чтобы кто-то мне объяснил – никто мне не объяснил.
– Но – это происходит, правда?
– Конечно.
– Через него это происходит. Вы не хотите сказать: да, поэт это такое священное животное?..
– Я знаю, что так говорят, но я бы так не выразился. Потому что
“священное” – такого слова я не употребляю. Гений делает мне это непонятным, но я этим восторгаюсь. Я вам дам на это, понимаете ли, калам… не каламбур, а пояснение. Я уже тысячу раз его давал. Кто-то меня спросил когда-то, что такое гений. Я сказал: вы знаете, я объясню вам, что такое гений. Это совсем не так замысловато. Гений. Не величие, это другое дело. Великий человек
– это человек, который меняет историю, известным образом. А гений. Танцор Нижинский. Нижинского спросили, как он умеет так прыгать – так не падать. Он сказал: вы знаете, люди, которые прыгают, обыкновенно спускаются сразу вниз. Этого не нужно.
Подождите. Зачем делать это сразу? Подрожите там, немножко надо полетать – как бы сказать это по-английски? – hovered…
– Паря. Повиснув.
– Вот так. Не сразу спускаться – а вот так. А потом спуститься… Это гений. То, что они делают,- просто. И ясно. И вы чудно понимаете, что делается. Как это делается, понятия нет.
И что для этого нужно, вы не знаете. Но это не от одного таланта. Это сразу действует на вас таким образом. То же самое в музыке. Музыка – это отдельное дело. В музыке я это более или менее понимаю. Музыка очень непохожа на другие искусства.
Непохожа. Совсем нет. Все другие искусства имеют отношение к миру. К миру… как сказать?..
– Натуральному.
– …натуральному. Тогда как поэзия – это слово. Словами так или иначе пользуются. Слова. Художество – это краски, формы, это мы видим в натуре, видим натуру в конце концов. Сами мы бы это сделали иначе. Музыка – это не подражание, не знаю, птицам. Это не подражание чему-то, которое мы слышим там. Ритм – может быть
– обозначен в нашей крови, пульс.
– Что-то биологическое.
– Да, есть. Но мелодия – нет. Это что-то совершенно отдельное, что мы производим из себя, и не имеет никакого отношения к другим искусствам. Поэтому ангелы только занимаются музыкой и картин не пишут.
– Ангелы?
– Да. Играют. Играют на арфах. Играют на трубах.
– Вы, Исайя Менделевич Берлин, говорите об ангелах?
– Я говорю о художниках, которые представл… которые показывают нам ангелов. Ангелы у художников играют на трубах, играют на арфах. Потому что ангелы не занимаются земными делами. А тут что-то неземное. Я могу себе представить ангела. Не ангела с крыльями, а вот этого старого еврейского ангела – тот ангел, который пришел к Аврааму и сказал Сарре, что у нее будет ребенок. Этот ангел не имел никаких крыльев. Это был какой-то господин. Свалившийся оттуда.
– Итак. Музыка для вас номер один среди прочих искусств.
– Да, да.
– А еще вы дружили со Спендером, с молодости; и вообще знались с поэтами. Выпускаем такую замечательную довольно часть вашей биографии, которая мне открылась, что вы сами писали ежедневные стихи…
– Ни при чем, это была механическая вещь.
– Я шучу, шучу… А был у вас в жизни период большей остроты отношения к поэзии или меньшей? Или это зависело только от…
– …поэтов, которых я знал. Есть поэты, которых я люблю, и поэты, которых я не люблю. Я читаю, могу читать поэзию. Шекспира я могу читать, сонеты, с наслаждением. Мильтона тоже. Тютчева тоже. Пушкина тоже, Лермонтова тоже. Блока тоже. И так далее.
Главным образом по-русски. Потому что поэта надо всегда… поэт больше всего относится к тому языку, который вы знаете ребенком.
Поэтому русская поэзия больше для меня означает, чем английская.
– А как вы относитесь к поэзии Иосифа?
– Положительно.
– Ну, Исайя, ну правда.
– Не негативно.
– Да-да-да. Это не вы ли когда-то ответили…
– Я никогда не считал Иосифа гением.
– Не считали, ну и не надо, но он невероятно талантлив. В отдельных вещах и гениален.
– Гениален, но не гений. Можно сказать “гениален” только по-русски, и по-немецки это можно сказать; нельзя сказать по-английски. Есть просто… есть такие моменты гения, но не гений, в полном смысле – в котором Блок был гений. Настоящий гений.
– А Пастернак?
– Ну Пастернак, par excellence. Мандельштам – гений. Ахматова.
– А вы никогда не выделяли Мандельштама особо? Как не только лучшего русского поэта двадцатого века, а поэта ранга, например,
Данте, например.
– Я понимаю.
– Но так не считаете? У вас нет такого отношения к нему?
– Нету, нет. Я думаю, так должно быть, вероятно даже, так и есть. Но нет, нет, мое отношение к искусству недостаточно глубокое. Не меняет мою жизнь.
– А у кого вы видите глубокое отношение к искусству?
– О, у меня есть друг, Hampshire, Хэмпшир, философ. На самом деле, его жизнь меняется этим. Я понимаю, есть люди, на которых искусство, в частности, поэзия, на самом деле сильно действует.
Они видят мир другими глазами. Мир меняется перед их глазами, если какой-то поэт что-то сказал. Я это прекрасно понимаю. На меня производила такое действие проза Вирджинии Вулф. Поэтому когда я ее читал, я видел улицу другими глазами. И дома тоже.
Это может быть, это эффект поэзии вполне понятный.
– Вы никак с ней не пересекались?
– Да. Я ее не знал, но я ее встретил, по-моему, три раза.
– И никакого разговора не было?
– Был разговор, но не очень интересный, она описывает разговор этот довольно точно в своих письмах. Я на нее произвел не особенно такое приятное впечатление.
– Да?
– Virginia была глубокая антисемитка. Хотя муж ее был еврей. Она абсолютно ему была предана. Он для нее все сделал. Она знала это. Верила в него. Когда она покончила самоубийством, в ее последнем письме она сказала ему, какой он был замечательный человек. Как он ей… что он сделал для нея, для ея жизни. Но!
Не в этом дело. Я ее встретил… за обедом в New College. Она была… двоюродная сестра главы Нью Колледжа. Мистера Тишера.
Mister Tisher был в свое время такой ученый-историк, занимался всякими языками, Наполеоном; во время первой войны он был министром просвещения, у Ллойд Джорджа, большим другом, попал в
Парламент, и – его мать и мать Вирджинии Вулф были сестры. Он меня – и ея – пригласил обедать. Она не очень хотела, но приехала.
– Примерно год какой?
– Тридцать четв… третий? тридцать четвертый? Я сидел напротив.
И дрожал от нервности, потому что чувствовал к ней невероятное, понимаете ли, уважение. И она только… как-то ничего о разговоре не пишет, говорит “около меня сидел, против меня сидел довольно известный Исайя Берлин…”. Известным я тогда не был, но она все-таки думала, что я был ее друзьям известен. “…как я слышала, коммунист”. Между прочим. “Выгля… По виду португальский еврей”. Почему португальский? Это номер один, письмо, которое написала своей сестре.
– Описывает встречу?
– Описывает вообще этот вечер. Потом, примерно то же самое пишет, она говорит: “Он немножко… как это по-английски?..
Слишком умничает”, что-то вроде этого. “Похож на молодого
Кейнза” – это Кейнз у нее был большой друг. Это приятно, конечно, комплимент можно видеть. Если хотеть. “Похож на молодого Кейнза”… э-э… и все. Потом я ее встретил опять, разговаривали о том, другом и третьем. И о Стивене Спендере, и о его любовниках, и о других вещах. Потом я ее встретил, она пригласила меня на обед. Я пошел, и она была довольно… ничего замечательного не было – и со мной никакого специального разговора не было. После этого она меня опять пригласила – но к этому времени она уже покончила самоубийством: письмо пришло в
Америку после самоубийства. Немножко жутко было. Это получить.
Она красавица была.
– А она что с собой сделала?
– Она бросилась в реку, утопилась.
– Это депрессия?
– Кто знает.
– Вот именно: кто знает.
– Нет, она сходила с ума. После каждого написанного романа – что-то происходило. Она была не нормальная в этом отношении.
Что-то происходило, какие-то сумбуры. После того, как писала роман, ее нужно было смотреть психиатру.
– А она не производила впечатления величия – такое, как производила Ахматова?
– Не величие, нет, но очень она была невероятно красивая, тоненькая, говорила замечательно, говорила немножко, как
Пастернак говорил. Пастернак говорил иногда чушь, а иногда гениальные вещи. Вперемешку. Так было немножко с ней. Когда она, например, начинала описывать, как ее платье загорелось где-то, это было замечательно слушать. Это всегда было живое, полное, поэтическое и самое приятное, которое я когда-либо слышал; чтобы так говорили, с таким воображением, так живо и не только живо, но замечательно красиво”.
Наступает день и час “Мемориала”, когда между половиной одиннадцатого и половиной первого ночи Бог объявляет Паскалю о своей действительности так же явственно, как геометрическая циклоида о своей формуле. Или не так явственно, но разными способами все-таки подталкивая к признанию этой действительности. Или не наступает ни в каком виде. Мир, в котором Бог есть, а тем более мир, который Бог содержит,- целен, полон и един. Само принятие Бога, Его действительности, все равно – доказательное или бездоказательное, логическое или на веру – обеспечивает эту цельность, полноту и единство. С Богом жизнь не становится беззаботней и легче, но, во всяком случае, гармонически ориентируется. “Ибо все из него, им и к нему”, как разъяснял римлянам Павел. Без Бога человек находится в мире разобщенных картин, явлений, лиц. Нижинского лишнюю долю секунды поддерживает в воздухе не ангел и не демон, а такая бесспорная данность, как его гениальность, столь же убедительная, что и особый склад его мышц и костей. Голоса Мильтона и Блока озвучивает не неведомый, вне их существующий ритм, а их персональная гениальность. Поэзия – не невыразимые “звуки небес”, а конкретные “песни земли”. Борис Пастернак и Вирджиния