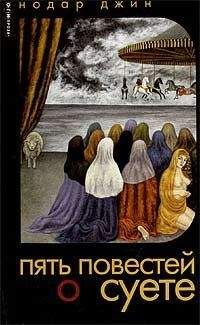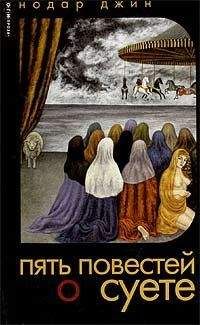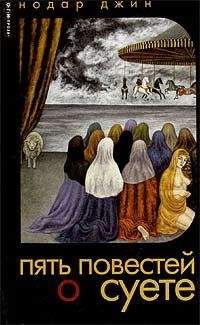— Подожди, подожди, — вмешался фрак. — У них у всех белые лица — когда не негры. Я имею в виду не критиков, а людей.
— Но у него слишком белое, понимаешь?
— Это плохой вкус! — возразил фрак. — Я не употребляю белил. Я люблю, чтобы люди выглядели натурально, как мёртвые!
— Ты не понимаешь меня! — вздохнул танцор. — У него как раз в жизни было очень белое лицо. Чересчур!
— Тем более! — парировал фрак. — Таких вообще надо не белилами, а румянами, чтобы было видно, что когда-то были живые, — и повернулся ко мне. — Но его привезли из Филадельфии, а Филадельфия уже давно не Нью-Йорк!
Сперва мне почудилось, будто я начал что-то понимать, но потом решил, что безопаснее убежать.
— Так где же Киссельборг? — спросил танцор.
— А зачем он вам? — ответил я.
— Слушай! — опять вспылил он. — Что ты за человек! Ты не издеваешься, нет, ты такой и есть. Зачем он нам может быть нужен, а? Не догадываешься? В конце концов, ты же сам к нам и пришёл!
— Правильно! — признал я. — А сейчас сам же и уйду.
— Постой! — вскинулся и фрак. — Как — «уйду»?! Где, говорю, критик?
— А зачем он вам? — настаивал я.
Теперь уже оба, видимо, поняли, что в помощи нуждаюсь именно я. Фрак выступил было вперёд, но я дал понять, что помогать следует издали. Он вернулся назад и сказал:
— Критик этот… Как же его в жопу звать-то?
— Киссельборг, — сказал танцор. — Но не надо о нём так!
— Да я к слову… Так вот, Киссельборг нужен мне, чтобы его похоронить. В земле. Это так принято — хоронить если мёртв.
— А как же получилось, что его надо хоронить? — сказал я и поправился. — Зачем вдруг хоронить должен ты?
— Дай-ка я объясню ему, ладно? — перебил танцор и повернулся ко мне. — Видишь ли, Киссельборг жил в Нью-Йорке, но умер в Филадельфии на ленинградском балете…
— Кировском? — перебил и я.
— Правильно, Кировском, — продолжил танцор. — Так вот, он скончался там, но сразу его сюда везти не стали: с ним хотели попрощаться и там… А сегодня ночью, конечно, привезли: утром уже панихида, придёт весь балетный мир! Мы, из балета, стараемся хоронить своих днём, потому что вечером спектакли. Понятно пока?
— Пока да! — подбодрил я его, поскольку он старался.
— Его, одним словом, выгрузили из машины, дали Карлосу расписаться и уехали… Карлос — это он! — и ткнул пальцем во фрак.
— Да! — показал тот плохие зубы. — Карлос Бонавентура!
— Карлос расписался, машина уехала, а Карлос вернулся к себе отодвинуть стулья для каталки с Киссельборгом. Понимаешь?
Не всё. Соотвественно — я и кивнул головой лишь слегка.
— Вот! Возвращается Карлос за Киссельбергом, а его уже нету! Я думаю так: те, кто выгрузили каталку, не замкнули тормоза, и он покатился. То есть коляска покатилась, а Киссельборг — вместе с ней. Понимаешь? Куда-то туда. Я всё объехал, ищу, но его нету.
— Всё понятно! — улыбнулся я. — Единственное что…
— Скажи, — разрешил Карлос.
— Почему критика привезли к тебе? — спросил я его. — Родственник? Но ты ведь даже его имени не знаешь!
— Нет, не родственник, — ответил Карлос, — но куда ж его тут ещё везти?! Весь балет хоронят у меня! Ну, многих…
— Карлос, видишь ли, был первый, кто догадался открыть дом для гомиков, — объяснил танцор.
— «Для гомиков»?
— Да, «Аполлон», — подтвердил танцор и указал рукой на вывеску за спиною Карлоса.
«Аполлон», прочёл я, «Похоронный дом К. Бонавентуры».
Я засиял от удовольствия, ибо, хотя непонимание и приносит счастье, именно понимание приносит наслаждение:
— Так бы и сказали, что — «Аполлон»! А то закрываете собою вывеску… Теперь всё ясно: «Аполлон»!
— Меня тут все знают! — зашевелился К. Бонавентура.
— Я, например, знаю давно! — соврал я. — Очень хорошая идея!
— Назревшая, — зашевелился и танцор.
— Конечно! — зашевелился теперь и я. — Все мы умираем.
— Всегда! — согласился он. — А ты тоже, да?
— Очень! Хотя не хочется.
— А почему не хочется? — удивился танцор.
— А кому хочется?!
Танцор подумал и переспросил:
— Я имею в виду — ты тоже гомик?
Я опешил:
— А ты-то сам как думаешь?
— Я догадался сразу! — обрадовался он.
— Пойдём? — рассердился вдруг на танцора Карлос.
Пока мы пересекали авеню и шагали вниз, я начал думать о Нателе, но вспомнил, что надо бы вырвать у танцора пару долларов на тоннель. Стал искать лучшую фразу. Нашёл, но выговорить не успел: каталки с критиком перед белым «Мерседесом» не было.
— Был здесь! — выдавил я.
— Увезли?! — всполошился Карлос.
— Как — увезли?! — хмыкнул я. — Кому тут нужен критик?! Особенно мёртвый.
— Людям всё нужно! — объяснил Карлос. — Что плохо лежит.
Я вспомнил о канистре. Её тоже не оказалось. Я взбесился. Посмотрел на всякий случай вверх по тротуару. Потом вниз.
Канистра стояла на месте. Рядом с другим белым «Мерседесом».
— Вот она! — воскликнул я. — Канистра!
— Что?! — не поверил Карлос. — При чём тут канистра?!
— И критик, наверное, тоже там, — ответил я.
Побежали все. Рядом с канистрой сразу увидели и каталку.
— Вот же он, сукин сын! — обрадовался Карлос.
Танцор кольнул Карлоса укоризненным взглядом, потом подошёл к голове покойника и приподнял плед.
— Да, — кивнул танцор. — Как живой: очень белый…
Карлос придал лицу философское выражение и сказал ему:
— А ты прав, он высокий… Смотри — куда ноги прут!
Я ещё раз взглянул на ботинки покойника и заметил, что подошва совершенно чиста. «Адолфо» — прочёл я на ней, заржал и стал оправдываться:
— Вспомнил кое-что. У нас в городе, где я родился, продали как-то народу импортные ботинки. Назывались «Адолфо». Но назавтра они у всех разошлись по швам. Выяснилось, что это специальная обувь для покойников. Наш министр, дурак, закупил за гроши в Италии огромную партию…
— Правильно, — проговорил Карлос. — Ничего смешного: для покойников выпускают специальный гардероб.
— А я, например, не знал, — признался танцор. — Мне всегда казалось, что жизнь для мертвецов не приспособлена.
— Это хорошая фраза, — сказал я, — потому что жизнь не для покойников. Особенно — если эмигрант.
— Каждому своё! — пропустил это Карлос. — У всех в мире свой гардероб. В балете — тоже своя обувь…
Говорить стало не о чём. Танцор покрыл критика пледом и посмотрел вопросительно на Карлоса.
— Я тоже пойду, — буркнул я. — Дайте мне только пару долларов. Да? И не обижайтесь, пожалуйста… Я всё-таки нашёл вам критика…
Они переглянулись. Карлос полез во фрак, вытащил пачку однодолларовых бумаг, отстегнул две, потом приложил к ним визитку и протянул руку.
И мы разошлись.
Канистра была теперь легче: протекло много. Шагалось мне, между тем, тяжелее.
На перекрёстке я отыскал их взглядом. Среди притихшего города, в полутьме, Карлос во фраке и танцор в мерцающих ботинках, оба полусогнувшись, подталкивали своего Киссельборга в гору. И всех их троих, да и самого себя, четвёртого, каждого из тех, кого вокруг не было видно и кто проснутся завтра в этих домах и разъедутся по городу в этих автомобилях, в том числе Чайковского с гитарой, даже Айвазовского с полковником Фёдоровым, Зарю Востока, юную семинолку, Бобби из ФБР, пакистанца с бензоколонки, — всех вокруг мне стало так жалко, что внутри больно защемило. Все они представились мне такими, какие они есть, какие есть и дожидавшиеся меня на кладбище петхаинцы: побеждённые, потерянные и жаждущие тепла.
И таким же представился себе я сам — смешным, ничтожно маленьким и лишённым любви.
Я взглянул вверх, на прожжённую звёздами и присыпанную пеплом молитвенную шаль из крохотных облачных лоскутов и искренне пожелал всем победы.
65. Молчание есть не мудрость, а молчание
Хотя было уже поздно для того, чтобы торопиться, я, завидев «Додж», побежал к нему, опорожнил канистру и вышвырнул её с грохотом вон. Бензина оказалось в ней меньше половины. Я громко и грязно выругался в адрес Пакистана, сплавившего мне брак. На шум в окно надо мной высунулись круглолицые супруги, отказавшиеся недавно одолжить десятку.
— Чего, дурак, буянишь? — крикнул супруг, а супруга добавила, что час поздний. И тоже назвала «дураком».
Жалость к человечеству у меня мгновенно улетучилась.
— Пошли вы все в жопу! — распорядился я.
Исчезли. Пошли то ли туда, то ли за двустволкой. Я влетел в «Додж» и крутанул ключ. Приученный к невезению, ждал, что мотор откажет, но он сразу же взревел сытным голосом — и через минуту я мчался в пустом тоннеле по направлению в Квинс.
Под землёй невольно представил себя мертвецом.
Думать об этом не хотелось, но я вспомнил, что в моей голове нет ни единого мускула, способного отключить мысль. Как, например, смыкание век отключает зрение. Универсальность этого дефекта устрашила меня. Человечество состоит из круглолицых супругов, пакистанцев, полковников фёдоровых, айвазовских, семинолок, танцоров — и, увы, никто на свете не способен перестать думать!