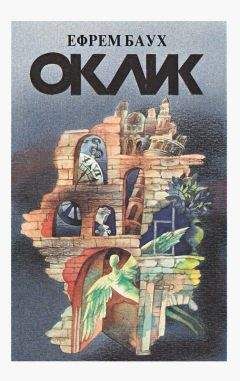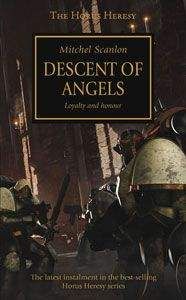Ознакомительная версия.
Странные наплывы духа посещают на этой земле.
То, кажется, мельком, коснулся самого ядра тайны, то внезапно накатывает такая отчужденность: жаждешь ее преодолеть, как одолевают болезнь, пытаешься понять, что это за "ситра ахра" – иной мир, иная сторона – виснет ли она на тебе камнем, можно ли слиться с нею до конца, чтобы освободиться, и не в этом ли неотменимость иудаизма, чьи тысячелетние гены – в тебе, и невозможно их вытравить из наследственного кода: он плодотворен и невыносим, обязывает и обессиливает.
Идем вдоль моря, по кромке волн. Я – чуть впереди. Остальные, не перестающие спорить, сзади.
Хотя по последней метеосводке со стороны Европы к нам приближаются грозовые заряды, спирали дождевых туч, лохмы тумана, а на Хермоне даже возможен снег, день пока стоит солнечный, температура – двадцать два градуса тепла, море пасторально, иссиня-голубого цвета, курчавится слабым прибоем у камней, слепит выпуклой до марева далью.
Мужчины на песке играют в шеш-беш, малышка собирает раковины, две "попки" лежат, разговаривая друг с другом, покачивая хвостами волос.
Косо бьет солнце со стороны берега, в лицо, заполняя бескрайнее разомкнутое пространство солнечно-усыпляющей сладкой дымкой, и море, как парное молоко, переливается через камни.
Песок на краю лагун молчалив, светел, погружен в себя.
Огромные ворохи тишины лежат завалами в этом пространстве у моря, завалами созерцания, дремотного ничегонеделания.
Валят в сон.
Отсюда, с кромки моря, дома, пальмы, стены, даже башни – мелки, приземисты, сжаты рядом с огромным морем, расширенным светом слепящего солнца, и потому неохватным.
А вдалеке одинокий, словно бы блуждающий по волнам, грезящий собой – парус…
Удивительное ощущение: гуляют, сидят у моря люди, в одиночку, группами, но даже двое рядом разобщены напрочь грезой, вторгающейся между ними, этим забвенно-шумящим огромным пространством – морем, вечным соперником, третьим, неотменимым.
Иду на север вдоль моря, оно – слева, в левом ухе шумит по-домашнему. Но стоит повернуть голову назад, как в правое ухо, из-за плеча и спины, приходит иное море, отчужденное, шумящее пламенем тысяч горелок. Два шума, два звучания одного моря, как два различных мира, отделяемых друг от друга и сливаемых опять легким поворотом головы.
В раковинах слуха – все море, в изгибах памяти – все прошлое.
* * *
ПЯТИДЕСЯТЫЙ: ОБЪЯВЛЕНА СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.
КОЛЕСО ФОРТУНЫ И ГЕРБОВАЯ БУМАГА.
СТИЛЬ ВРЕМЕНИ.
ПРОВИНЦИЯ ПАХНЕТ РИМОМ.
Тринадцатого января пятидесятого, в день, когда мне исполнилось шестнадцать, высочайшим указом в союзе всех республик была объявлена смертная казнь.
В классе гуляла стужа. На переменах мы впадали в отчаянное буйство, прыгали, орали, дрались, пытаясь согреться. Во время урока химичка Юлия Ивановна послала меня за чем-то в учительскую. За столом несколько учителей негромко переговаривались о смертной казни. Навострив уши, я ловил неприятно знакомый, словно бы костяной голос военрука Семен Семеныча Хаита, невысокого, казалось, выточенного из кости человечка в неизменных галифе и сапогах: "…ведут по темному коридору и не знаешь, когда тебе выстрелят в затылок…"
Я шел в класс, школьный коридор был пуст, долог, мрачен, свет – издалека, от входной двери.
Внезапно и отчетливо ощутил ледяное прикосновение ствола к затылку…
В оранжевой проруби раннего заката печально стыли белые шапки крыш, свежий до рези воздух был полон хрустом шагов, где-то выла-плакала собака, и плач неискупимой виной вис над окрестностью, позванивало льдисто ведро в колодце недалеко от дома Андрея, вода была студеной, чистой, дымящейся, подобно юности, чудной и тайной, боящейся оглянуться в завтра, как оглядываются назад и видят холодный блеск смертельного дула.
Я рассказывал Андрею про темный коридор смертников.
Мы гнали от себя мысли, но видения были неотступны.
Что спасало нас?
Наивность ли и молодость в гибельном пространстве – как первобытное незнание дикарей в огромной клетке?
Застойность, отсутствие малейшей тяги.
Заслонка не вынималась, сплошной угарный газ стелился над страной, держа всех в полуживом состоянии, и в глотке свежего воздуха бездумно и радостно ощущалась вся глубина жизни.
На оранжевом закате густо растекался удар медного колокола. Галки, обсевшие карнизы колокольни, сорвались с места, беспорядочно кружась в воздухе обгорелыми хлопьями бумаги: видением погромных пожарищ, погашенных обеспамятевшим северным снегопадом и вновь взвихренных пургой и набатом – черные обрывки священных еврейских книг носились в воздухе.
Вороний грай усиливал неимоверно тоску погружающейся в угарно-дремотную стужу округи.
Впервые, вслед за Андреем, я подошел так близко к церковной ограде. Звонарь на высоте метался черным лохматым вороном, запутавшимся в силках веревок от колоколов и колокольчиков: нежный перезвон меди странной тяжестью давил грудь в эти предсумеречные минуты.
Только однажды, года два назад, влекомый мальчишками, перед всенощной, я мельком увидел внутренности церкви, я тут же сбежал.
Ощущение всегда было таково, что вот, среди по-домашнему знакомого пространства – булыжниковой площади, аптеки, рынка, развалин – как внутри матрешки, упрятано за обычными стенами иное пространство, огромное, высокое, замкнутое, хоральное, с незнакомыми лицами, выписанными на стенах, накладной позолотой иконостаса, запахом горящего ладана, кадильного дыма и хоругвей, в которых невыветривающийся запах вечных похорон, направляющихся по улицам города на кладбище, своим величественным и молчаливым ходом подавляющих гражданские похороны с оркестром военных музыкантов. Церковное отпугивало меня своей тайной и в то же время чрезмерной телесностью; куличи были хлебом, но символизировали плоть.
В сравнении с церковью синагога была местом домашним, но стоило среди кашля и скрипа скамеек раскрыть книгу с нездешними знаками, произнести "Итгадал вэиткадаш шмэ раба", – и без всяких ритуалов и роскошных атрибутов некое дуновение касалось лба, спирало грудь, как бывает под водой, когда ощущаешь последние крупицы воздуха в легких – вся суета окружающей скудной жизни отходила.
Потом ты уже плыл, уставал, начинал сомневаться, но всегда ощущал, что высоты и пропасти духовного Пространства скрыты в этих серых буднях, в резервуарах священных книг, и в самые беспамятные дни жизни через десятилетия предупреждением и тайной поддержкой всплывало продолговатое окно синагоги, неожиданно чистый под самой аркой край стекла, покрытого льдом, и в нем краешек такого голубого, такого забытого неба, что сердце сжималось болью.
Особенно остро церковное воспринималось мною зимой, спиваясь с ранними студеными закатами, снегом, хрустом шагов на морозе, криком галок и колокольным звоном, как будто в этой одновременно угнетающей и влекущей ледяным сном зимней феерии была скрыта сама тайна христианства, его холодный северный лик.
Летом церковь как бы скукоживалась за пылью и тусклым громыханием тележных колес по булыжникам площади и рынка.
Весной, вместе с таянием снегов, запахом гнили, от которого кружилась голова, приходила пасха, мальчишки бегали в церковь на всенощную красть куличи и крашенные яйца, тетки Андрея – Катя и Саша тоже отправлялись, ковыляя, в церковь.
В доме их пахло масляными красками, которыми Андрей наносил на холст портрет Ван-Гога в облике Христа с терниями вокруг головы, а я ковырялся в старой библиотеке Андреевых теток, листал пахнущие прелью времени книги, нашел "Жизнь Иисуса" Эрнеста Ренана с ятями и твердыми знаками, читал взахлеб, упивался нежными, как пастель, пасторально-пасхальными описаниями ландшафтов Палестины – Галилеи, Иудейской пустыни, Иерусалима.
Это щемяще перекликалось со звенящими, как пение жаворонка, любовными строками "Песни Песней", со сладостной тягой весенней ночи и треском последних льдин уходящего по Днестру ледохода за окнами Андреева дома.
Мать Андрея рассказывала об отце, который учился в духовной семинарии, готовился к посвящению, но затем стал летчиком, а теперь сидел в каких-то гиблых застенках: в пасхальные дни он любил слушать духовные песнопения.
Стояла пасхальная ночь, слабое лунное сияние не мешало звездам мерцать, посверкивало на высоких водах реки, легко и забвенно звенящих льдинах.
Андрей провожал меня вдоль берега, я нес, как драгоценность, книгу Ренана, которую дали мне на пару дней, собираясь читать допоздна, взбирался на буфет, доставал из-за карниза завещание бабушкиной сестры, написанное еще в девятнадцатом столетии, которое пролежало там все годы мятежей, войны и мира, всматривался в гербовую пожелтевшую бумагу с ятями, как в сказочный манускрипт, хотя речь в нем шла всего-навсего о распределении между родственниками перин, подушек, золотых и серебрянных ложечек и вилок.
Ознакомительная версия.