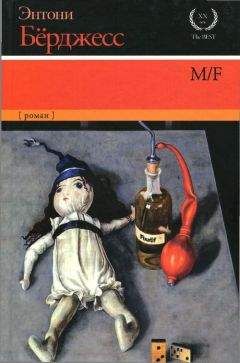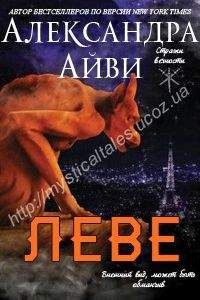Ознакомительная версия.
Она спросила:
— О чем был фильм?
— О сексе, мам. Как и все фильмы сейчас.
Надо ли приправлять речь ругательствами? Ллев, похоже, не делал разницы между собеседниками мужского и женского пола.
Его мать спросила:
— А про море там не было? Джорджио сказал, там про море.
Какие чистые гласные в «море».
Я ответил:
— Ну да, было чего-то про море. А вообще дрянь кинцо, мам.
А потом она сказала такое, от чего я весь похолодел:
— Нес сестре мясо.
— Нес… нес?..
— Держись от людей подальше, bachgen. В таких местах полицейские очень не любят чужаков. И особенно умных чужаков, таких, как мы. А у тебя безупречное алиби, как они это назвали. Их послушаешь, так можно подумать, что нести мясо сестре — это вроде такой… ну, такой…
— Эвфемизм?
— Duw wawr, что за умное слово? Хотя сейчас, что ни возьмешься читать, там сплошные умные слова. Вроде этого длинного слова, ну, того, что у меня в глазу. Как оно там?
— Я забыл, мам.
— Ладно, доктор, будем надеяться, знает. Ты меня разбуди, чтобы я не проспала. Я записалась на десять.
Ох уж этот мой длинный язык и длинные слова!
— Конъюнктивит?
— Нет, не так длинно. Но тоже какой-то «ит». Ладно, посмотрим. Какой-то голос у тебя странный, bach. Ты опять пил?
— Только кофе, мам.
— Кофе? Кофе? Умные слова и кофе. Ну да, разумеется, ты растешь. Мне нужно признать для себя, что мой мальчик растет. Все меняется. Ничто не стоит на месте. А теперь я попытаюсь заснуть. Nos da.
Я не знал, целовал ее Ллев nos da или нет. Но все-таки наклонился на всякий случай. И теперь ясно увидел ее резкие строгие черты. Один глаз красный и воспаленный. Птица клюнула, или что? Здоровый глаз не проявлял никаких сомнений, что к ней сейчас наклоняется именно Ллев. Я поцеловал ее в лоб, уловив слабый запах лавки, где торгуют домашней птицей.
— Nos da, мам.
Когда я вернулся в кабинку Лльва, со мной случился короткий обморок. Я упал на постель и отключился на один удар сердца. Это все напряжение. В таком напряжении я долго не выдержу. Может быть, завтра откроется аэропорт. У мисс Эммет есть деньги от адвокатов. Полечу с ними в Кингстон, на Ямайку, там отдышусь перед следующим этапом. Но улечу я отсюда как Ллев. Во всяком случае, буду Лльвом, пока не сяду в самолет. Я уже большой мальчик, мам. Сам хочу жить, понимаешь. Своим, значит, умом. Устроюсь. Может, женюсь. Даже имя сменю.
Семя полыни на тополе белом
Печеньице с тмином для
Жесткошерстного чижа
Из семейства вьюрковых
Но, лежа в постели с записной книжкой, я вдруг обнаружил, что Сиб Легеру не дает больше полного освобождения от костлявого, закостенелого безумия этого мира. Надо убрать Лльва подальше от этих шедевров, и все-таки, может быть, из-за той одинокой свечи, создавшей атмосферу кошмарного театра в стиле Эдгара По, мне будет очень непросто изъять грубую мертвечину из всей этой свободной чистоты. Сон помог бы мне думать о завтрашнем дне как об отдельном периоде времени, куда передвинутся все проблемы, но где нет сна, там нет и завтра. Проблемы вот они, здесь и сейчас. Что такого я сделал, чем я их заслужил?
15
— А хорошо заживает. Странно, что ты ничего не сказал. Глубокая все-таки рана.
— Не хотел, чтобы ты волновалась, мам. Тебе и так вон хватает всего. Этот глаз, и вообще.
— Все равно. Странно, что ты ничего не сказал, bachgen. Ты меняешься. В чем-то — к лучшему. Но все равно. Подрался, да?
Моя наглость питалась отчаянием, каковое, по сути, и есть обычное состояние души художника.
— На корабле приложился, мам. Когда была качка.
— Да. На корабле. Тяжелый был переход, нехороший. Я иной раз задумываюсь: а оно того стоит, такая жизнь? Дома нормального нет, вечно шатаешься с места на место.
— Да, мам. Я тут в последнее время все думал. Пора мне задуматься о…
— В вольере с профессором Беронгом жизнь была поспокойнее. Наука, да. Только науку легко превращают в шоу-бизнес, как это теперь называется. Помнишь Паркингтонов из Миссури?
— Да, да. Паркингтоны.
— Они занимались настоящей научно-исследовательской работой, как они сами это называли. В том местечке, не помню… Дрок, Дрюк… Где-то в Северной Каролине — кажется, так они говорили.
— Дьюк?
— Да, кажется, так. У тебя память лучше. ЭСВ, что бы это ни значило.
— Экстрасенсорное восприятие.
— А ты учишься, bachgen. Меняешься к лучшему со своими длинными словами. Но потом их сманили, как они выразились. Никогда не забуду, что он сказал. Помнишь, что он сказал?
— Этот хрен вообще будет улицу переходить, или что? Прости, мам, вырвалось. Меня просто бесят такие уроды, вот они и вылетают, слова нехорошие.
Я и вправду был весь на взводе — наверное, потому, что устал. И возможно, скорее выдавал себя неуверенным стилем вождения, нежели речью и даже разбитым затылком. Сидя на заднем сиденье, она хорошо видела мою голову сзади — дама, которую личный шофер везет на прием к врачу. Она выглядела точно так, как по стандартам вчерашнего Метро-Голдвин-Майерского кино должна выглядеть настоящая леди… высокая, стройная, в строгом синевато-сером костюме и черных прозрачных чулках, с седыми подсиненными волосами, с висячими сережками. Серьги, сказала она, как наверняка говорила не раз и раньше, полезны для зрения. Сейчас ее щеки не были подцвечены хной: стало быть, это был просто сценический грим.
— Настоящий язык Кардиффской бухты. Я, кстати, заметила, ты в последнее время стал меньше ругаться. Так вот, Эрик Паркингтон сказал, что за каждым искусством стоит наука. И это правда, bach.
— Я как раз и собирался сказать, мам. У меня вот нет ни искусства, ни науки. Пора мне за что-нибудь взяться. Пора уже сделать хоть что-то. Всю ночь лежал думал, не мог заснуть. Видишь, не выспался.
— Думал? Да, это тоже хорошее изменение, к лучшему. Сынок, bach, я знаю, что это такое. Я не буду стоять у тебя на пути. Как только захочешь устроиться, я сразу все брошу. Я и раньше тебе говорила не раз, но ты только смеялся. Chwerthaist ti. Работа, дом, птички в саду, и твоя мама может расслабиться в кои-то веки. А что они делают, все эти люди?
— Они жаждут крови.
Мы проезжали мимо Дуомо, где набожные прихожане категорически не желали признать, что их лишили законного чуда. У закрытых дверей толпились рассерженные старухи с посудой в руках.
— Крови?
Ее голос вдруг стал глухим, хриплым, как будто в него подмешали кровь, и я прямо чувствовал, как у меня на затылке зашевелились волосы.
— Но я хочу совсем-совсем скоро уехать, мам. Я и так потерял столько времени зря.
— Заботиться о своей вдовой матери — это ты называешь зря тратить время? Мы, кстати, приехали. Это здесь. Марроу-стрит, какое-то странное название для улицы, и особенно где принимают врачи.
Она рассмеялась, chwerthodd hi, и мне тоже пришлось рассмеяться, не понимая над чем. Хорошо ли я должен был знать валлийский? Гораздо позже я выяснил, что «marw» по-валлийски означает «мертвый».
— Встань вон там, — приказала она, — где свободно. Жди меня. Я недолго.
— Я хочу книжку купить.
— Про секс, как обычно? Хотя нет, ты ведь меняешься, правда, siwgr? Книжка без секса, богатая знаниями. Хорошо, только недолго.
Я смотрел, как она поднимается по ступенькам к большой дубовой двери доктора Матты, имя которого было выгравировано каллиграфическим курсивом на медной табличке. Она стукнула в дверь молотком в форме дельфина, потом обернулась — взглянуть на меня еще раз перед тем, как войти. Ее взгляд был тяжелым, слегка озадаченным, но когда медсестра в белом открыла дверь, он сменился быстрой улыбкой какой-то болезненной нежности. Мне очень не нравилось, как все идет: напряжение уже проявляло себя болями в прямой кишке, затрудненным дыханием, расшатыванием верхних резцов и возобновлением головных болей. Она вошла, дверь за нею закрылась. Утром я сказал, что буду кофе. В первый раз в жизни Ллев попросил к завтраку кофе. Но это не вызвало у нее подозрений, кроме обычного недоумения по поводу явных перемен в привычках и манерах. Неопровержимым свидетельством было лицо, лицо Лльва, и, так сказать, прилагающееся к нему тело. Голос тоже был правильным, я это знал точно. Словарь — дело другое, но ей, кажется, нравились эти первые всходы нового, повзрослевшего Лльва. Даже Лльву пришлось бы взрослеть, будь он жив. Самое главное — это наличие трехмерного существа, а все остальное — вопрос акциденций. Но мне надо было исчезнуть как Лльву, с сожалением расстающемуся с обожаемой мамой ради того, чтобы начать свою жизнь. Человек имеет право на свободу — в то время только об этом и говорили.
Таков был ход моих мыслей, когда я чуть ли не бегом несся на улицу Индовинелла на своих — на его — тонких, нетерпеливых ногах. Мне хотелось скорее оказаться в сарае с работами Сиба Легеру, хотя это еще означало и необходимость разбираться с трупом, уже тронутым карибской жарой. Сегодня вечером я от него избавлюсь: соберусь с духом и расправлюсь со всем этим делом за полчаса. Само по себе погребение, думается, не составит труда. Почва песчаная, рыхлая — никакой слежавшейся глины, надрывающей спину и легкие. Нужна лопата, наверняка она где-то там есть. Может быть, даже в сарае Сиба Легеру. Хотя это было бы как-то совсем неуместно. Лопаты, они для Вордсворта, не для этого неземного сияния.
Ознакомительная версия.