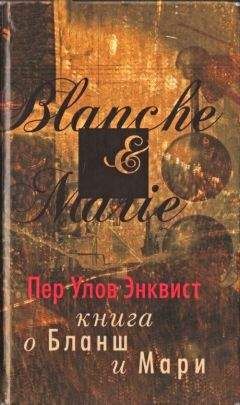И это стало концом царицы Астинь.
Герта, которую до того, как она поменяла имя, звали Фебе Сара, поскольку она была еврейкой, сочла это несправедливым. Астинь была образцом для подражания. И Герта пришла в ярость.
Неужели все так просто? Неужели жизнь такова, что тебя толкают, словно бильярдный шар кием? Только и всего?
Да, только и всего. Тебя никто никогда не толкал, Мари? — спросила она.
Только голубой свет, ответила та.
До мадам Склодовской, как она называла себя на десятый месяц бегства, дошло письмо от Бланш.
Она читала его в одиночестве, на берегу, и плакала.
На последней неделе сентября она уехала в Париж.
Ей надо было задать Бланш один вопрос, и она знала, что должна торопиться: времени было мало. Возможно, она получит ответ.
2 октября она вошла в комнату Бланш. Та лежала в своем ящике. За ней хорошо ухаживали, но она все равно не могла сдержать слез.
Она так истосковалась, и вот Мари вернулась.
В ту ночь Мари смогла задать важный вопрос, на который вовеки веков не будет ответа, но его все равно необходимо было задать, и она задала его, и в «Красной книге» Бланш оставила ответ, единственный ответ, на который была способна, из-за него эту историю и следовало рассказать: так и было, именно так все и произошло, вот и вся история.
VIII
Песнь о голубом свете
1
Меня все больше охватывает страх за Мари.
В ночь накануне бегства Мари спросила меня, в чем заключается сокровенная тайна любви. Она ведь так неприглядна! И так болезненна: краткие головокружительные мгновения, и следом вся эта грязь! Мари спросила меня, что я говорила Шарко. Сказала ли я что-нибудь, заставившее его понять?
— Однажды, когда он плакал, — ответила я, — к собственному удивлению, я не задумавшись сказала: я всегда буду рядом с тобой.
— Только и всего? — спросила она.
Да, только и всего.
Я знаю. У меня осталось мало времени.
Я пишу единственной рукой, но и ее у меня скоро отнимут. Мари часто спрашивает, должна ли она винить себя в моей болезни, было ли ее причиной радиевое облучение; я не хочу, чтобы Мари чувствовала себя виноватой и поэтому испытывала ко мне жалость. Мне хочется, чтобы она жалела меня из любви ко мне. Поэтому я ссылаюсь на те два года, что проработала ассистенткой в рентгеновском отделении Сальпетриер, еще до нашей встречи. Кто знает, является ли причиной моих ампутаций профессор Рентген или же урановая смолка.
Мари — мой единственный друг. Если бы не я, ее бы уже не было в живых, своими ампутированными рассказами о любви нового века я поддерживаю жизнь в нас обеих.
Боюсь, однако, что уже не смогу объяснить сущность любви. И любовь между мной и Шарко тоже. Я всегда буду рядом с тобой — я не рассказала Мари, при каких обстоятельствах это было произнесено, но я-то их помню хорошо.
Шла то ли первая, то ли вторая неделя марта 1891 года. У Шарко случился первый тяжелый сердечный приступ. Это произошло во время ужина за два с половиной года до его смерти, кстати, в присутствии Луи Пастера. Шарко почувствовал сильную острую боль в области сердца и смертельно побледнел. Доктор Вигир помчался к некому профессору Потену, жившему в соседнем квартале: было поздно, профессор открыл дверь в ночной сорочке, но сразу же оделся. Через час после оказания медицинской помощи боль отступила. На следующий день Шарко нашел меня в больничной прачечной. Мы вошли в гладильную, и я велела двум работавшим там женщинам удалиться.
Он пришел с очень кратким сообщением.
— Два с половиной года, — сказал он. — Это все, что мне осталось. И тут он заплакал.
— Я всегда буду рядом с тобой, — сказала я в ответ.
Именно тогда он должен был понять. Я всегда буду рядом с тобой. Но если сущность любви можно описать только таким образом, то все, что я написала во имя спасения Мари, вероятно, по большому счету лишено смысла. Я понимаю, что никогда не смогу пойти дальше.
Это облегчает дело. Но у меня болит душа за Мари.
Она ведь надеялась, что сможет с моей помощью свести все воедино и в конце концов сказать: так и было, именно так все и произошло, вот и вся история. И думаю, она по-прежнему надеется.
2
У меня осталось мало времени.
Я не стану в этой части «Книги» — которую сама называю «Красной книгой», поскольку она отмечена красным цветом любви — задавать вводные вопросы. Этому есть свое объяснение. Мне хотелось хоть раз представить историю в виде беседы двоих.
Но я ведь одна. Человек одинок.
Случившееся во время поездки в Морван, — о чем я по настоятельной просьбе Мари рассказала ей, когда, вернувшись из Англии, она совершенно не знала, что ей делать, — слишком болезненно и все же исполнено радости.
Но у меня мало времени.
Меня многие посещали, чтобы попросить рассказать о времени, проведенном в Сальпетриер, о Шарко, о лекциях по пятницам и моей в них роли, о его последних днях и смерти. Зачем же спрашивать об этом меня? Существует множество свидетельств об участи женщин в Сальпетриер. Последним приходил энергичный мужчина по фамилии Бодуэн: он хотел, чтобы я подтвердила, что все это был сплошной обман, но у него ничего не вышло.
Вроде бы все меня видели, а вроде бы никто и не видел.
Но о самом конце никаких письменных свидетельств не существует, ни о последних днях, ни о поездке в Морван, ни о последних часах Шарко. Нет, я ошибаюсь, одно все-таки имеется. Я его читала; автором является некий Рене Валлери-Радо, зять Луи Пастера. В поездке в Морван он участия не принимал, но, кажется, разговаривал с теми двумя хорьками. Я его хорошо знаю: приспособленец, из уважения к памяти Шарко полностью умалчивающий о том, что я участвовала в этой поездке, и о моей роли в спасении жизни Шарко.
Мне это безразлично. Я скоро сама умру. Смерть умаляет так же, как ампутации укорачивают мое тело. Смерть уменьшает меня, а заодно мои амбиции и высокомерие.
Ведь только потом понимаешь, что было счастьем.
Я решила называть свои отношения с Жаном Мартеном Шарко историей о классической паре влюбленных. Тогда выносить любовь делается легче. Если начинаешь углубляться в боль, она становится ужасной, хотя и терпимой, поскольку в каком-то смысле уже принадлежит истории. Я сказала об этом Мари. Она посмотрела на меня с удивлением. Я ее понимаю. Обкромсанный торс в деревянном ящике на колесиках, вероятно, не годится в качестве символа вечной любви.
Классическая пара влюбленных. Так следовало бы думать всем. Можно превратить нас в классическую пару влюбленных. Вот что нужно Мари. Мари и Пьер. Мари и Поль. Бланш и Шарко.
Я никогда не могла называть его по имени.
Почему он взял меня в эту поездку?
Все знали, что он женат, имеет троих детей и жену, которую почитает и боится, а о моей роли никому известно не было. Полагаю, что все рассматривали меня как прекрасную Бланш, бессильную и смертоносную, к которой никому, и в особенности Шарко, непозволительно было прикасаться. Их привлекало сочетание вожделения и смерти. Вожделели все, и никто не мог дотронуться до меня; все знали, что я могу убить, это защищало меня, и от этого их желание росло. Это главное, что про меня было известно. Я хочу, чтобы ты поехала со мной, сказал он, я болен, мне тяжело, angina pectoris[49], я знаю, что умру, и хочу, чтобы ты поехала со мной.
И вот мы отправились в Морван.
Мне не хотелось, чтобы меня боялись.
Зачем меня заставляли? Это несправедливо.
Мне иногда кажется, что если мы приложим наши любови друг к другу — я имею в виду свою любовь и любовь Мари, — то в результате возникнет картина самой жизни. Моей жизни и жизни Мари.
Мари тоже так думает. Она иногда спрашивает, не завидую ли я ей. Я молча пристально смотрю на нее. Но предполагаю, что она думает о Сальпетриер и сравнивает. Тут-то я и говорю о классической паре влюбленных.
Тогда Мари смеется. Так проходят дни и ночи.
Можно представить себе любовь, существующую только внутри тебя самого. Я часто так думаю в минуты отчаяния и меланхолии. Как будто жизнь накрыта стеклянным колпаком. Тогда, вероятно, было бы не так больно. Почему ты любишь животных больше, чем людей, спросила я однажды у Шарко. Он рассердился и стал возражать. Разве ты любишь меня больше какой-нибудь собаки? — спросила тогда я.
Я хотела сделать ему больно, чтобы заставить понять. Бланш, сказал он, ты чересчур сильная, и я боюсь тебя. Но ты не должна пользоваться слабостью того, кто любит тебя больше жизни.
Насколько же тогда он любил жизнь? Не знаю. Мы отправились в Морван.
3
В поезд на Лионском вокзале мы сели вчетвером.