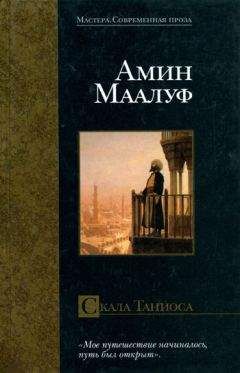В левой руке женщина держала кувшин с водой, правой приподняла подол, чтобы не споткнуться, а на согнутом левом локте она несла полную Корзину апельсинов. Увидев, как неустойчиво она чувствует себя на лестнице, обремененная всеми этими предметами, Таниос подумал, что надо бы ей помочь. Однако он опасался, вдруг из-за какой-нибудь двери вылезет грозный муж, и ограничился тем, что стал следить за ней глазами.
Он добрался до четвертого этажа, а она продолжала подниматься. И тут один апельсин сорвался с края корзины, за ним второй, они покатились по лестнице. Женщина сделала вид, будто хочет остановиться, но ведь наклониться она не могла. В конце концов юноша подбежал и собрал апельсины. Она ему улыбнулась, однако не замедлила шаг. Таниос не мог взять в толк, потому ли она удаляется, что хочет избежать беседы с незнакомцем, или это приглашение следовать за ней. Охваченный сомнением, он пошел-таки следом, но робко и с некоторой тревогой. Так они поднялись на пятый этаж, потом на последний, шестой.
Наконец она остановилась перед дверью, опустила на землю корзину и кувшин, достала из-за корсажа ключ. Молодой человек держался в нескольких шагах позади нее, само собой, с апельсинами в руках, чтобы его намерения не внушали никакого сомнения. Она отворила дверь, собрала свой скарб, потом, входя, обернулась к нему и улыбнулась снова.
Дверь осталась открытой. Таниос приблизился. Незнакомка указала ему на корзину, которую она поставила на пол рядом с узеньким матрацем. И в то время, как он подошел, чтобы водворить плоды на их место, она, словно изнуренная усталостью, прислонилась спиной к двери, тем самым закрыв ее. Комната была тесная, без окон, если не считать слухового окошка у самого потолка, и почти пустая — ни стула, ни шкафа, никаких украшений.
По-прежнему ни слова не говоря, неизвестная жестом дала понять, что запыхалась. Взяв руку Таниоса, она прижала ее к своему сердцу. Ее гость напустил на себя серьезную мину, как будто удивляясь, что оно бьется так сильно, и оставил свою руку там, куда она ее положила. Она тоже не стала ее убирать. Наоборот, неуловимым движением дала ей проскользнуть под платье. От ее кожи исходил аромат плодовых деревьев, будто гуляешь по фруктовому саду в апреле.
Тогда Таниос набрался храбрости, тоже взял ее руку и в свой черед прижал к сердцу. Он покраснел от собственной дерзости, и она поняла, что для него это первый раз. Тогда она выпрямилась, сбросила платок, которым он обматывал свою голову, запустила пальцы в его преждевременно поседевшие волосы, несколько раз потрепала их и по-доброму рассмеялась. Потом прижала его голову к своей обнаженной груди.
Таниос понятия не имел, какие движения ему следует производить. Он был уверен, что его невежество дает о себе знать поминутно, и в том не ошибался. Но женщина с апельсинами не рассердилась на него за это. Она предупредительно отвечала лаской на каждый его промах.
Когда они оба сбросили одежды и остались нагими, она сперва задвинула щеколду двери, потом увлекла своего гостя на ложе, чтобы кончиками пальцев направить его на нежный путь наслаждения.
Они по-прежнему не произносили ни словечка, ни один из них не знал, на каком языке говорит другой, но они уснули так, будто стали единым телом. Окошко комнаты выходило на запад, и солнце теперь проникало через него квадратным лучом, в котором плясали пыльные нити. Проснувшись, Таниос все еще ощущал этот запах фруктовых садов, а под его правой щекой в нежной женской груди, медлительное и умиротворенное, билось сердце.
Волосы, больше не скрытые покрывалом, были рыжи, словно железистые почвы в окрестностях Дайруна. А кожа в розовых пятнышках. Только губы и соски были слегка коричневатыми.
Под его внимательным взглядом она открыла глаза, приподнялась и глянула на слуховое окошко, пытаясь определить, который час. Потом потянула к себе пояс Таниоса и, сопровождая этот жест улыбкой сожаления, постучала по нему пальцем в том месте, где были спрятаны деньги. Предполагая, что таков всегдашний порядок вещей, юноша развязал пояс и вопросительно взглянул на гостеприимную хозяйку. Она, выставив по три пальца на обеих руках, показала: шесть, и он дал ей серебряную монету в шесть пиастров.
Когда он оделся, она протянула ему апельсин. Он помотал головой, но она засунула апельсин ему в карман. Потом проводила его до двери, спрятавшись за створку в тот момент, когда он выходил, ведь она была голой.
Воротясь в свою комнату, он лег на спину и принялся подбрасывать и ловить апельсин, размышляя о чудесном только что пережитом событии. «Неужели мне нужно было отправиться в изгнание, безнадежно застрять в этом чужом городе, в этой гостинице и, увязавшись за незнакомкой, забраться на верхний этаж… неужели волны житейского моря должны были забросить меня в такую даль, чтобы я получил право на эти минуты счастья? Минуты столь насыщенные, как будто они и были целью и смыслом всего, что со мной случилось. И завершением всей авантюры. И моим искуплением».
Действующие лица, сыгравшие роль в его судьбе, чередой потянулись перед его умственным взором, и он надолго задержался на Асме. Он дивился тому, что со времени бегства так мало думал о ней. Разве не из-за нее произошло убийство, разве не она была причиной его изгнания? И однако же она исчезла из его мыслей, будто в люк провалилась. Конечно, их ребяческие шалости, все эти беглые прикосновения губ и пальцев, что тотчас отдергивались пугливо, словно улиткины рожки, их мимолетные встречи и взгляды, полные обещаний, — все это не походило на то предельное упоение, которое он познал теперь. Но в ту пору это было его счастьем. Может ли он признаться Гериосу, что уже и думать забыл о той девушке, из-за которой грозил покончить с собой, девушке, ради которой он довел его до убийства!
Он попытался объяснить это сам себе. Что делала Асма в последний раз, когда он ее видел, силой вломившись к ней в комнату? Готовилась принимать поздравления по случаю оглашения ее помолвки с Раадом. Конечно, девушка вынуждена подчиняться своему отцу. И все же — какая безропотная покорность!
К тому же она принялась вопить, когда Таниос вне себя примчался к ней. Если рассудить здраво, в этом он тоже не вправе упрекнуть ее. Какая девушка поступила бы иначе, если бы к ней так ворвались, когда она принимала ванну?
Но он не мог отделаться от этой картины: кричащая Асма, орава охранников, вбежавшая следом, Рукоз, хватающий его, чтобы вышвырнуть вон. Вот каким в последний миг запечатлелся в его душе образ той, кого он так любил. Тогда, объятый яростью, с раненым самолюбием, он думал лишь об одном: вернуть, любой ценой отобрать назад то, что у него предательски отняли; ныне, когда он видел вещи в не столь искаженном свете, мысль об Асме вызывала в его сердце прежде всего горечь. Подумать только, ради нее он разрушил свою жизнь и жизнь своих близких!
Может быть, его долг — попросить у Гериоса прощения? Нет, уж лучше пусть у него останется иллюзия, что преступление, им совершенное, было благородно и неизбежно.
II
На исходе того дня Гериос возвратился очень поздно. И лишь затем, чтобы поутру исчезнуть, чуть рассвело. Так оно с той поры и повелось. Таниос поглядывал на него, скрывая усмешку, как будто хотел сказать: «Ну вот, вместо того чтобы впасть в умопомешательство, ты теперь впадаешь в легкомыслие!»
На пороге пятидесятилетия, прожив весь век в хлопотливом подобострастии, отяготив свою совесть злодеянием, тяжким, как каменный утес, преследуемый, отверженный, проклятый, лишенный родного крова, управитель Гериос на заре каждого нового дня только и помышлял о том, как бы скорее удрать в греческое кафе и сразиться в трик-трак с товарищем по несчастью.
В замке ему доводилось играть в тавлу с шейхом, когда тому недоставало партнера и он призывал его; тогда он притворялся, будто такое времяпрепровождение его забавляет, и тщательно пекся о том, чтобы проиграть. Но в Фамагусте он был уже не тот. Преступление переродило его. Он развлекался в кафе, играл от всей души и наперекор бахвальству неразлучного Фахима чаще всего выигрывал. А если допускал какую-нибудь неосторожность, кости будто сами ему подыгрывали.
Эти двое приятелей были самыми шумными из посетителей кафе, порой вокруг них собирались небольшие толпы, и хозяин не скрывал, что он в восторге от такого оживления. Таниос больше не играл. Он оставался не более чем зрителем, ему это очень быстро надоедало, и он вставал, чтобы пройтись. Тогда Гериос пробовал его удержать:
— Твоя физиономия приносит мне удачу!
Но он все равно уходил.
Однажды октябрьским утром тем не менее уступил, присел снова. Не затем, чтобы добавить счастья своему отцу — много ли радости он ему принес за всю жизнь? — а потому, что к ним как раз подошел некто высокого роста, с тонкими усиками, одетый так, как одеваются важные лица в Горном крае. Образованный, если судить по чернильным пятнышкам на пальцах. Сказал, что зовут его Селим.