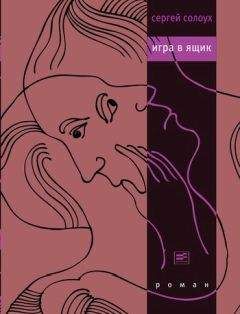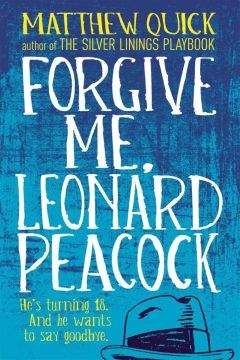«Неужели, – подумал художник, – всякий стыд потеряв, заявилась сама, вот так, днем, когда дома соседи, безо всякого приглашения?»
Владимир взял из-за дивана кусок кирпича, которым подпирал его, чтобы тот не качался, и решительно вышел в прихожую.
На пороге стоял невысокий плотный майор в серой поношенной шинели.
– Вам пакет! – густым голосом сказал майор, весело и хитровато уставившись на удивленного Машкова черными глазами.
– Аркадий Николаевич! – Машков порывисто обнял майора, нечаянно испачкав ему подворотничок с утра еще кровящей губой.
– Это ничего, – улыбнулся тот, снимая шинель, – рабочий момент. Я понимаю.
Он уселся в кресло и окинул художника долгим оценивающим взглядом.
– Хорошо, хорошо, но только почему все время в одно и то же место?
– Гвардии ефрейтор, – виновато сказал Владимир, – бывший ординарец гвардии майора Деева. По-другому не умеет.
Сверлящие глаза майора Волгина, бывшего армейского командира самого Владимира Машкова, все еще изучали художника.
– Значит, здесь, в этой обители, ты ешь, спишь и творишь свои шедевры?
Машков молча кивнул и продолжал хлопотать у круглого стола, гремя приборами. Очень многое хотелось обсудить со старым верным товарищем, поэтому вместо початой поллитры Владимир выставил на скатерть бутылку сухого вина.
Аркадий Николаевич Волгин рассматривал стоящую на мольберте картину.
– Хорошо схватил! Армада, наша непобедимая стая, – Аркадий Николаевич поднял быстрые глаза на Владимира и с довольным видом облизал сухие губы. – А я вот демобилизовался. Возвращаюсь к себе на родину, в Миляжково, дай, думаю, загляну к Владимиру, посмотрю, как он живет-может.
– Это вы хорошо сделали, – сказал Машков, протягивая Волгину первый полный стакан.
– За встречу!
– За встречу!
– Ловко схватил! – повторил Аркадий Николаевич, снова посмотрев на картину. – Молодец. Мне нравится.
Владимир пожал плечами.
– Позавчера на художественном совете забраковали, – мрачно сообщил он. – Предложили «доделать». А у меня на нее договор.
– Доделать? – переспросил Волгин. – А что доделать?
– Чешуя, говорят, не проработана. Рыбы без чешуи, говорят, не бывает, – с грустной усмешкой сознался художник.
– Худо. Такие замечательные, прямо литые, серебряные пули – и все надо портить? Так получается?
Владимир через силу улыбнулся.
– Выходит, так. У художников это случается...
– Гм... – Волгин нахмурился. – А председатель комиссии не баба? – спросил он, отбросив всякую веселость. – Не ка кая-нибудь сучка, что по ночам слушает радиоголоса всех этих теплокровщиков: Фройда, Донасьена и Захера-Мазоха?
– Председатель-то нет, но вот у него, у него... – тут Машков как будто бы замялся, словно дойдя до чего-то очень постыдного и неприятного.
– Есть дочка! – решительно закончил за него Аркадий.
– Как вы догадались? – удивился Владимир необыкновенной проницательности друга.
– Знакомый почерк, – зло сказал Аркадий, – бабы – проверенное оружье космополитов и формалистов. Отец-то сам не из безродных?
– Да нет, Семен Семенович, – ответил Машков.
– Эх, ты, – рассмеялся Волгин, – чистая душа, наивная. Ладно, налей еще по маленькой. От этой кислятины ни в ногах, ни в голове, только пить сильнее хочется.
Владимир взял бутылку, чтобы подлить себе и Аркадию, но неожиданно увидел, что она уже пуста.
– Быстро это мы... – огорчился Машков.
– Ничего, – сказал Волгин, вставая. – Чего тут сидеть в духоте? Весна. Пойдем покажешь мне твою златоглавую столицу, а заодно и пообедаем в «Арагви». Поэт к нам, помнишь, приезжал на передовую? Кирилл Зосимов. Очень хвалил.
Когда Владимир запирал дверь своей комнаты, внимание Аркадия привлекла довольно громко звучавшая здесь, в коридоре, симфоническая музыка.
– Что это? – задал вопрос Аркадий, остановившись и прислушавшись.
– Сосед мой, – пояснил Владимир. – Тот самый, я говорил вам, гвардии ефрейтор. Когда дочку воспитывает, всегда репродуктор включает, чтобы никого не беспокоить. Очень тонкий и деликатный человек, настоящий интеллигент из народа, а девочка у него сирота.
Друзья вышли на улицу. Асфальт был мокрый и грязный, в воздухе чувствовался запах ранней весны. Солнце за тонкой пеленой облаков казалось желтком, но грело ощутимо.
– Знаешь, Аркадий, – словно о чем-то вдруг вспомнив, сказал Владимир. – А вот с ней не может случиться такое? Я часто думаю об этом...
– С кем? – спросил Волгин, радостно дыша на улице полной грудью.
– С соседкой моей... Имя у нее очень уж странное. Не знаешь даже, хорошее или плохое. Угря.
Аркадий остановился и посмотрел на своего младшего товарища строго и внимательно:
– Правильно беспокоишься, Володя. И своевременно. Ведь путь, который выберет ребенок, будет зависеть от нас. От нас самих, что бы ее отец ни делал и как бы он ни старался. Мы всегда в ответе за то, что не изжили. В себе и в окружающих, – добавил Аркадий. – Никогда не забывай об этом, дружище!
Предосторожности! Безумно люблю выражения этих милых людей!
И. И. Шишкин
Николай Николаевич Пчелкин опаздывал на общее собрание художников МОСХа. Планировалось его выступление о положении современного искусства, и Николаю Николаевичу очень хотелось блеснуть свежестью мыслей и яркостью речи. Будучи человеком неглупым и эрудированным, Николай Николаевич умел увлечь аудиторию, которая в свою очередь щедро награждала его горячими аплодисментами. Но сегодня Пчелкину хотелось быть особенно оригинальным и интересным, поэтому вчера вечером он решил обмануть верную ему Марию Игнатьевну. Пчелкин сказал домработнице, что приходить и убираться в ближайшее время не надо, поскольку он на два дня с этюдником и красками уезжает к своим друзьям в Подмосковье. Много раз звали. Очень уж у них там крепкий и тяжелый на руку сосед: сторож колхозной бахчи.
Мария Игнатьевна поверила, утром не пришла, и обрадованный Пчелкин тотчас же позвонил Полине Винокуровой, тому «невинному существу» с беломраморным личиком, которое осчастливило его студию своим визитом неделю или две тому назад. Приводил девушку-ангела известный критик Осип Давыдович Иванов-Петренко, и он же, уходя, словно нечаянно, оставил на круглом столике в мастерской Николая Николаевича записочку с домашним телефоном Полечки.
Девушка как будто бы ждала этого звонка, но прийти и вдохновить Пчелкина согласилась не сразу. Он долго отнекивалась и жеманилась, и лишь узнав, что речь о большом программном докладе, согласилась.
– В таком случае тебя ждет сюрприз, папик-киска, – лукаво молвила она, опуская трубку.
От подобных слов у кого угодно разыграется воображение, что же говорить о художнике, от природы богато наделенном фантазией. Николай Николаевич два раза очень тщательно побрился, поставил на круглый столик красного дерева бронзовую лампу с шелковым абажуром, хрустальную вазу с фруктами, бутылку «Хванчкары» и стал ждать.
Но как же был удивлен многоопытный Николай Николаевич, когда обнаружилось, что для того, чтобы вдохновить его, черноокая посланница Олимпа привезла не полосатую палочку милиционера и даже не черный жезл железнодорожника. Полина Винокурова привезла с собой легкий рулончик бумаги: два десятка машинописных страничек.
– Хочешь сразу по мусалу? – спросил этот ясноглазый херувим, едва лишь переступил порог мастерской. – Вот этим бумажным веером по сальным щечкам? Хочешь? Со всей силы.
– Конечно, конечно, – закивал Пчелкин, обрадованный быстрому началу того, что он считал модной, но совершенно невинной игрой.
– Да, да.
– А вот и фиг тебе, папик, – фыркнула в ответ Полина прямо в глаза художника, которые он по наивности уже было подставил под удар, – сначала пообещай, пообещай кое-что...
– Все что угодно, все что угодно, – забормотал Николай Николаевич, теряя голову от нетерпения.
– Тогда пообещай, жиртрест, что прочтешь сегодня вот это на собрании. От своего имени прочтешь вот этот докладик Осипа Давыдовича... Тебе же и легче, дурашка глупая, – вдруг стала ласковой гостья. – Ты же, наверное, и не начинал писать. На вдохновение надеялся. А тут уж все готовое, да с мыслью, да с идеей...
От сказанных слов Николай Николаевич на секунду оторопел. На какое-то мгновение серая пелена позорной похоти спала с его глаз. Но вовсе не для того, чтобы ясно увидеть те сети и силки, которые на него расставили наши враги.
Сам того не замечая, долго шел, долго отрывался от народа крестьянский сын Николай Пчелкин, прислушивался к Осипу Давыдовичу, поддакивал Семену Семеновичу, и вот теперь, в решающий момент, не распознал прямой идеологической диверсии. Словно прожженный теплокровщик, Гоген или Ван Гог, Николай Николаевич смотрел перед собой и видел одну лишь налитую грудь под легким сарафаном. И мысли, давно и исподволь внушавшиеся Пчелкину, вдруг стали ему представляться его собственными, родными и естественными.