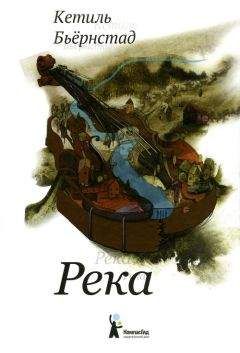Я не осмеливаюсь шпионить за ней. Во всяком случае, сегодня вечером. Я сворачиваюсь калачиком, поджимаю колени. И пытаюсь заснуть.
В это время из гостиной раздается музыка. Опять Джони Митчелл. Марианне слушает песню из альбома «Ladies of the Canyon». Она слушает «Вудсток»:
«We are stardust. We are golden. And we’ve got to get ourselves back to the garden».[10]
Я лежу и слушаю. Она не хочет, чтобы я сейчас был рядом. Она хочет одна сидеть в гостиной и слушать пение Джони Митчелл. Так бывает, когда люди долго живут друг с другом, думаю я, когда у них все уже устоялось. Но у нас с Марианне еще ничего не устоялось.
Я дремлю на Аниной кровати. Слушаю музыку, которую в гостиной слушает ее мать. Мне грустно. Уж не хочет ли Марианне теперь отстраниться от меня? Было ли все это ошибкой? Помнит ли она мои слова о том, что, может быть, я новый тяжелый элемент в ее жизни? Означает ли это, что я больше никогда не почувствую ее лежащей рядом со мной? Эта мысль панически пугает меня. Глупо было так говорить! Хотел выглядеть умным и взрослым? Да стану ли я когда-нибудь по-настоящему взрослым? Мне скоро девятнадцать, но у меня какая-то непреодолимая тяга к женщинам. Я боготворю даже тех, которые меня бьют. Что это, такая глубокая разрушительная потребность в любви? Во всяком случае, она разрушительна для моей карьеры. А что, если бы Марианне не была гинекологом? Если бы она от меня забеременела? Меня не пугает эта мысль. Напротив, мысль иметь ребенка от Марианне и таким образом подарить Ане единоутробную сестру или брата кажется мне в ту минуту очень привлекательной. Но нет ли в этом чего-то болезненного? Может, во мне есть что-то порочное, если мне в голову приходят такие мысли? Я уже попал в шокирующую и беспредельную зависимость от Марианне, думаю я. Всего за несколько дней я оказался не в состоянии даже представить себе, что смогу прожить без нее. Подчинился ее воле, ее переменчивым настроениям. Она владеет мною так, как не владела даже Аня. Или меня обманывает память? Раньше я был готов утверждать, что Аня — великая любовь моей жизни, хотя знал ее очень недолго. Теперь мне хочется сказать то же самое о ее матери. Я знаю, что ей сейчас трудно, что я не могу положиться на сигналы, которые она мне подает, что у нее в душе царит хаос, что я должен быть осторожен. Но все-таки я лежу и жду ее. Я не вынесу, если окажусь сейчас отвергнутым. Я лежу тихо. Она еще не сказала мне по-настоящему «покойной ночи».
Марианне приходит, когда я уже сплю.
Забирается ко мне под перину.
— Прости, — говорит она. — Я не хотела тебя будить. Можно мне спать у тебя? С тех пор, как ты появился в доме, я не могу спать одна.
Я мгновенно просыпаюсь.
— Я надеялся, что ты придешь.
Она, как кошка, прижимается ко мне.
Я не имею представления, который сейчас час. Знаю только, что теперь я уже не усну. Легкое прикосновение руки, и я понимаю, что она чувствует то же самое. Мы ласкаем друг друга, прикасаемся осторожно к тем местам, которые требуют от нас большего, но еще рано. Это игра в темноте. Она медлит. Я нервничаю. Не понимаю, почему у нее закрыты глаза.
— Расслабься, — просит она. — Отнесись к этому спокойно. Не думай ни о чем. Это неопасно.
Нет, я этого не выдержу. Ведь мне ее хочется. Она возбудила меня, хотя и не чувствует этого. Но от разумных, почти бесстрастных ноток, звучащих в ее голосе, я становлюсь еще более неуверенным. У меня ничего не получится, с отчаянием думаю я, пока она безуспешно пытается распалить меня, пользуясь своим опытом. Это не может так кончиться!
— Успокойся, Аксель. Не надо. Ты слишком волнуешься. Давай лучше спать.
Она понимает, что я стараюсь изо всех сил. Пытаюсь представить себе возбуждающие картины. У меня в голове хранится небольшое собрание фотографий, но это не помогает. Пытаюсь думать об Ане, такой, какой она была, пока не похудела. Но вдруг понимаю, что это нездоровая мысль. Нельзя сейчас думать о ее дочери. Я думаю о Ребекке Фрост. О последней ночи на даче Фростов. Это не помогает. Меня охватывает паника. Ведь Марианне волнует меня! Не об этом ли именно я читал? Импотенция? Какая дьявольская несправедливость, в такую ночь! Я в ее власти. Ей достаточно поманить меня пальцем, и я окажусь рядом, где угодно и когда угодно. Могу отказаться от своего дебюта ради нее. Могу продать квартиру Сюннестведта, изменить жизнь, сдать экзамен-артиум, стать врачом, как она, могу пронести ее на спине через весь город. Нельзя пережить такой день, какой пережили мы, чтобы ничего не изменилось, чтобы наши отношения не стали серьезными. Мне хочется сказать ей об этом, но у меня нет таких слов, и нет такой точки на моем теле, которая поведала бы ей об этом. Что она сейчас думает обо мне? Чувствует себя отвергнутой?
Мне невыносима мысль, что Марианне может подумать, что я ее отвергаю.
— Это неопасно, — повторяет она.
— Для меня опасно.
— Я что-то сделала не так? — по-товарищески спрашивает она.
Я отрицательно мотаю головой. Думаю о белом бюстгальтере под дождем, который скоро увидит весь мир.
— Ты такая красивая!
— Не говори так, хватит. Слышишь? Я самая обыкновенная женщина. Не Беатриче, не Гретхен. К тому же я падшая женщина. Не надо меня мифологизировать.
— Прости.
— И не говори прости! Господи, ты все испортил! Хочешь, я уйду обратно в свою комнату?
— Нет! — говорю я с отчаянием в голосе. — Только не это!
— Завтра у нас с тобой рабочий день.
— Говорю тебе: только не это! Ты не можешь сейчас уйти!
— Хорошо, — говорит она со вздохом. — Тогда скажи, что я могу для тебя сделать?
— Почему ты зажмуриваешь глаза? — спрашиваю я.
— Когда?
— Ты знаешь, когда.
Она гладит меня по голове. И думает, прежде чем ответить.
— Потому что я тобой наслаждаюсь, — говорит она. — Только поэтому. Тебе кажется, что это глупо? Я чувствую твою силу. Узнаю в тебе себя. Ты должен быть рад.
Она целует меня в губы. В подтверждение.
Я ей не верю.
У меня ничего не получается. И все равно я хочу ее. Тогда я целую ее в самое потаенное место. Кажется, это ее удивляет, но она меня не отталкивает.
— Так я раньше не целовал ни одну женщину.
— Не бойся, — говорит она.
Меня трогает ее доверие ко мне. В моих руках она точно девочка. Она быстро кончает и снова плачет. Короткими, болезненными, беспомощными слезами.
— Почему ты плачешь? — спрашиваю я наконец, когда она перестает плакать.
— Не спрашивай. Пожалуйста, не спрашивай.
Мы лежим, прижавшись друг к другу.
— Сделай вид, будто ты спишь, — неожиданно смеясь, говорит она. — И начинай считать овец.
— Уже считаю, — послушно соглашаюсь я.
— И сколько ты насчитал? Я не останавливаюсь, пока не насчитаю пять тысяч.
— Пять тысяч? Это очень много.
— А будет еще больше. Поверь мне.
Она знает, что она должна делать.
— Я тебя люблю, — говорю я.
— Не говори так, — просит она.
— Аня тоже так говорила.
— Я не Аня, — отрезает Марианне.
Я засыпаю. Аня и Марианне стоят по обе стороны какой-то тяжелой двери. Мать и дочь, обе в черном, их лица искажены от горя.
— Там что, храм? — спрашиваю я.
— Нет, только человек.
— Кто это?
— Брур Скууг.
— Я его знал, — говорю я. — Во всяком случае, я знаю, кем он был. Можно мне войти к нему?
— Он прострелил себе голову, — говорит Аня. — И еще неизвестно, захочет ли он говорить с тобой.
— Но я должен сказать ему что-то важное. Можно мне хотя бы попытаться? — спрашиваю я.
— Конечно, — отвечает Марианне. — Он наверняка обрадуется этому посещению. Ему там так одиноко.
Они открывают мне дверь. Я вхожу, внутри похоже на церковь. Или на концертный зал? По обе стороны от центрального прохода стоят большие динамики. Самый большой, какой я видел, усилитель McIntosh. Я вижу позолоченный проигрыватель с японскими иероглифами. На нем уже лежит пластинка. Адаптер опускается на третью дорожку. Но не слышно ни звука.
— Брур Скууг? — спрашиваю я. — Вы здесь?
Никто не отвечает.
Я сажусь на скамью. Жду.
Что-то, похожее на тень, шевелится в углу.
Тень поднимается. Подходит ко мне. Брур Скууг. Я знаю, что это он, хотя он вышиб из черепа свой мозг. Он напугал меня, когда был Человеком с карманным фонариком. Еще при жизни. Он пугает меня и сейчас, и даже еще больше, хотя он мертв. Правого виска у него нет. Глаза по-прежнему находятся на месте, но они налиты кровью и совершенно безжизненные. Из носа и из уголка рта сочится кровь.
— Вы выглядите лучше, чем я думал, — говорю я.
Он смеется каким-то болезненным смехом.
— Ты обладаешь особым талантом вежливости, Аксель Виндинг, — говорит он. — Это сулит тебе большой успех у женщин. Но, как думаешь, добьешься ли ты успеха как музыкант?